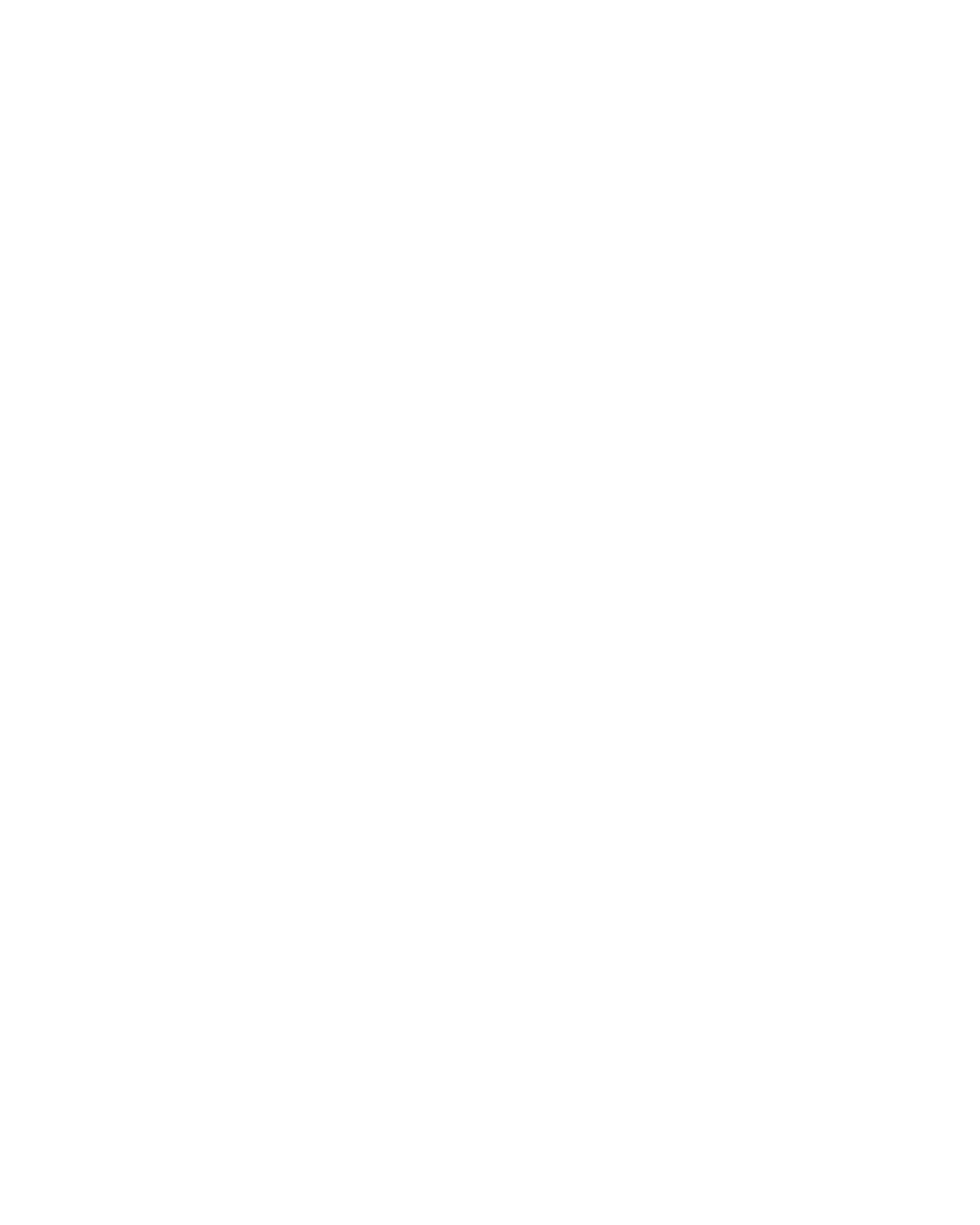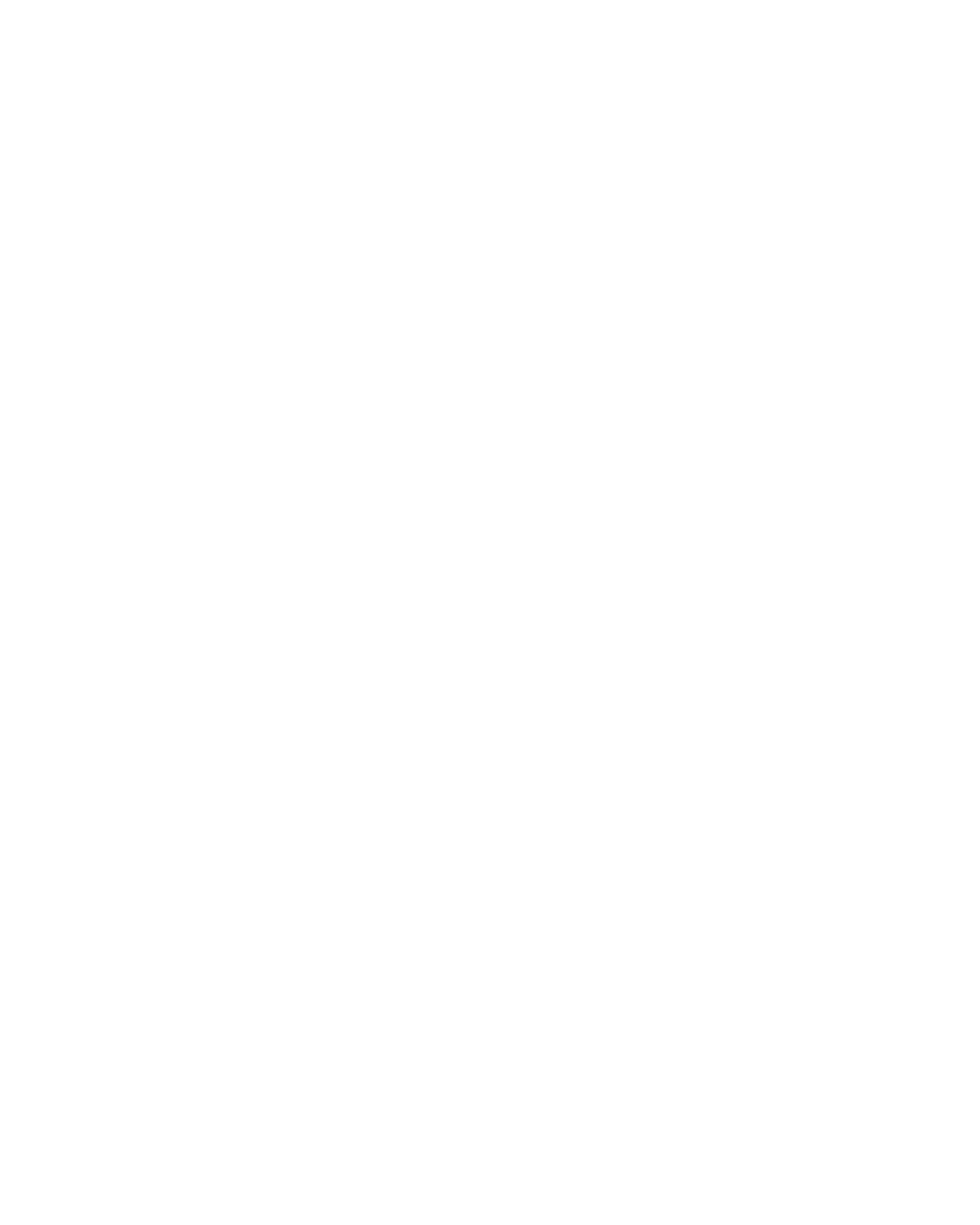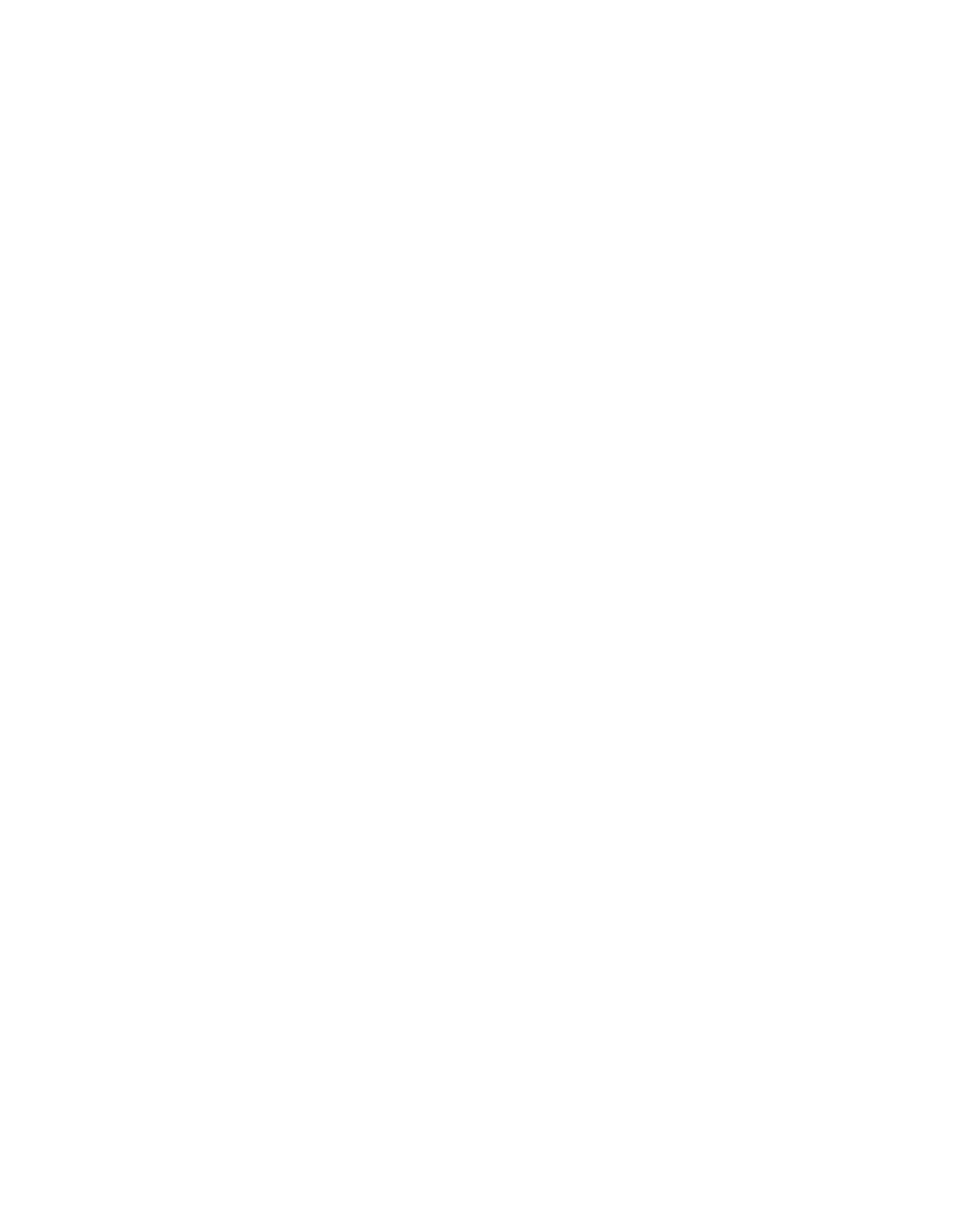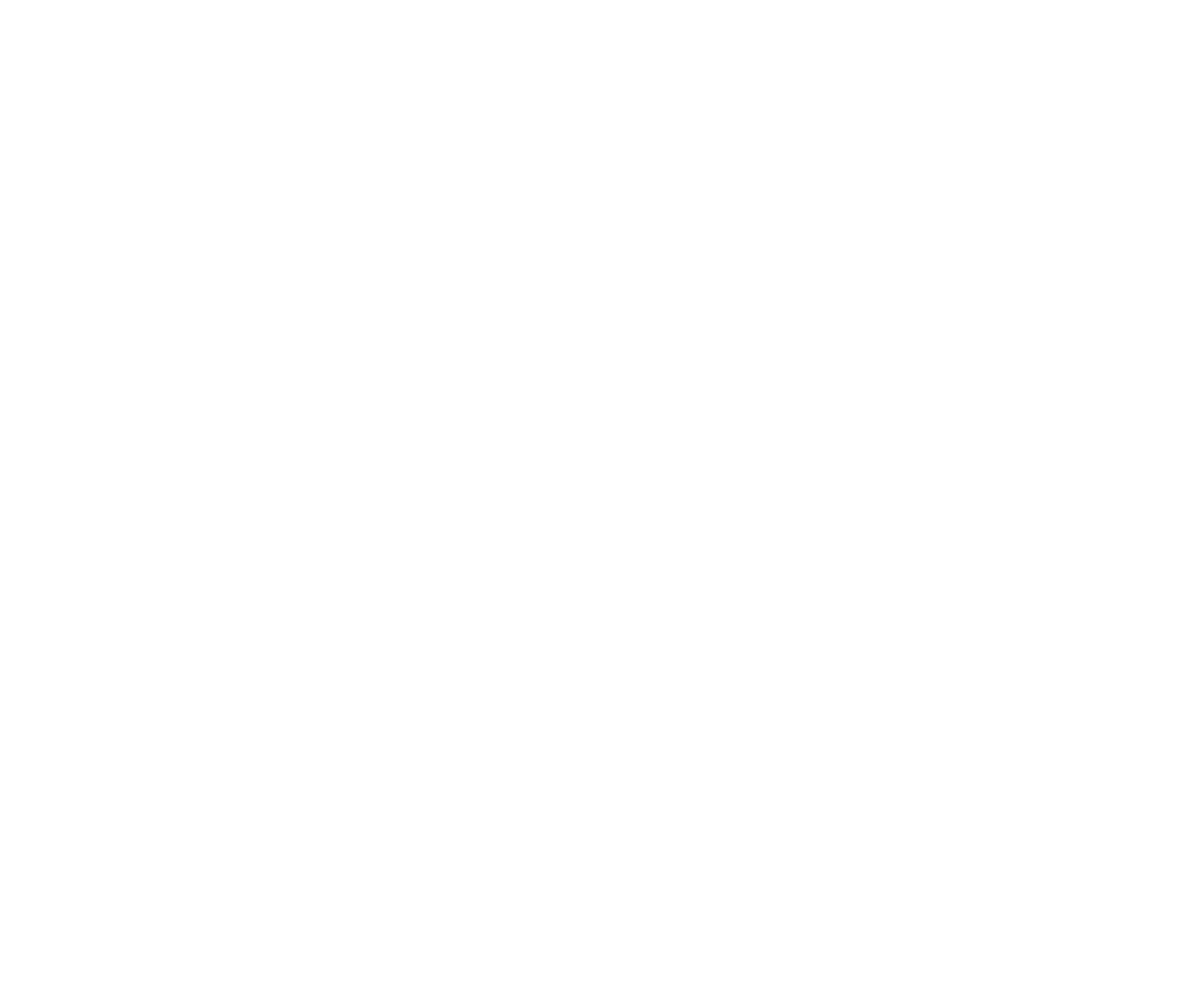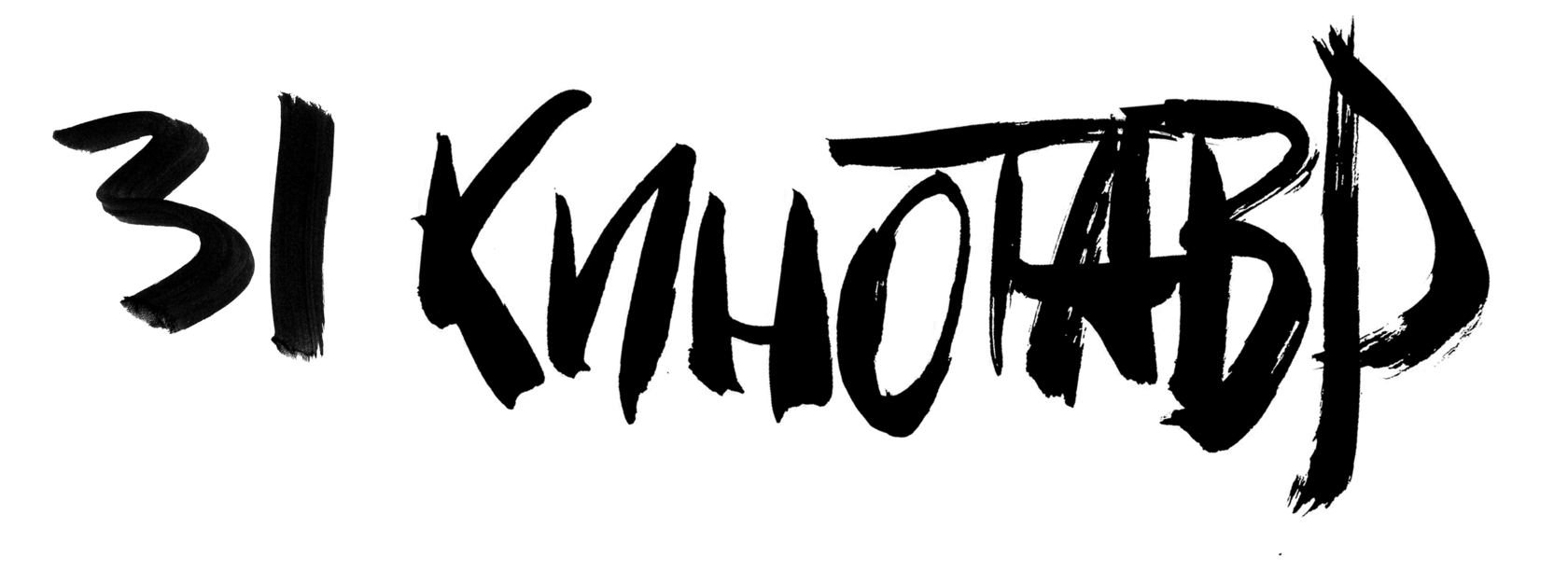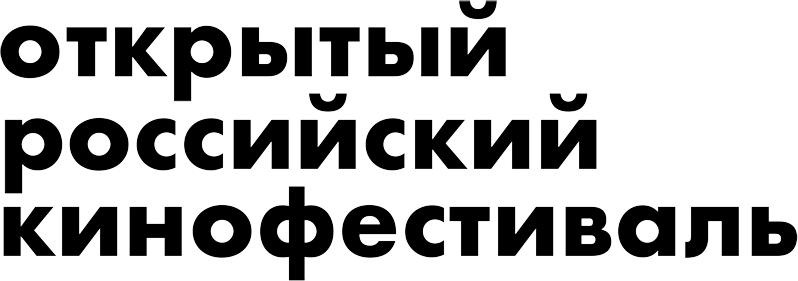
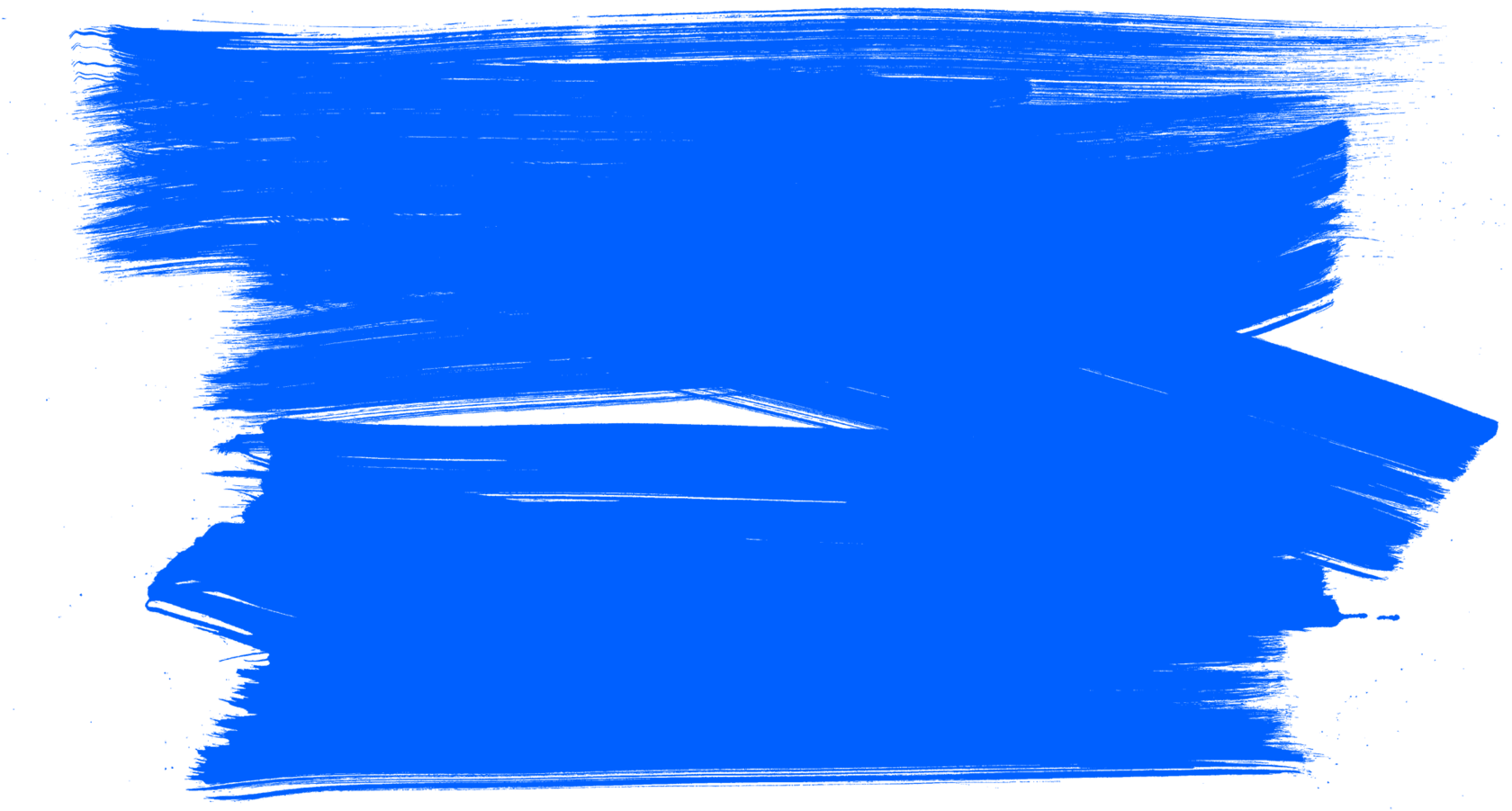






репортаж
Все оттенки «Серы»
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ КОНКУРСА «КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
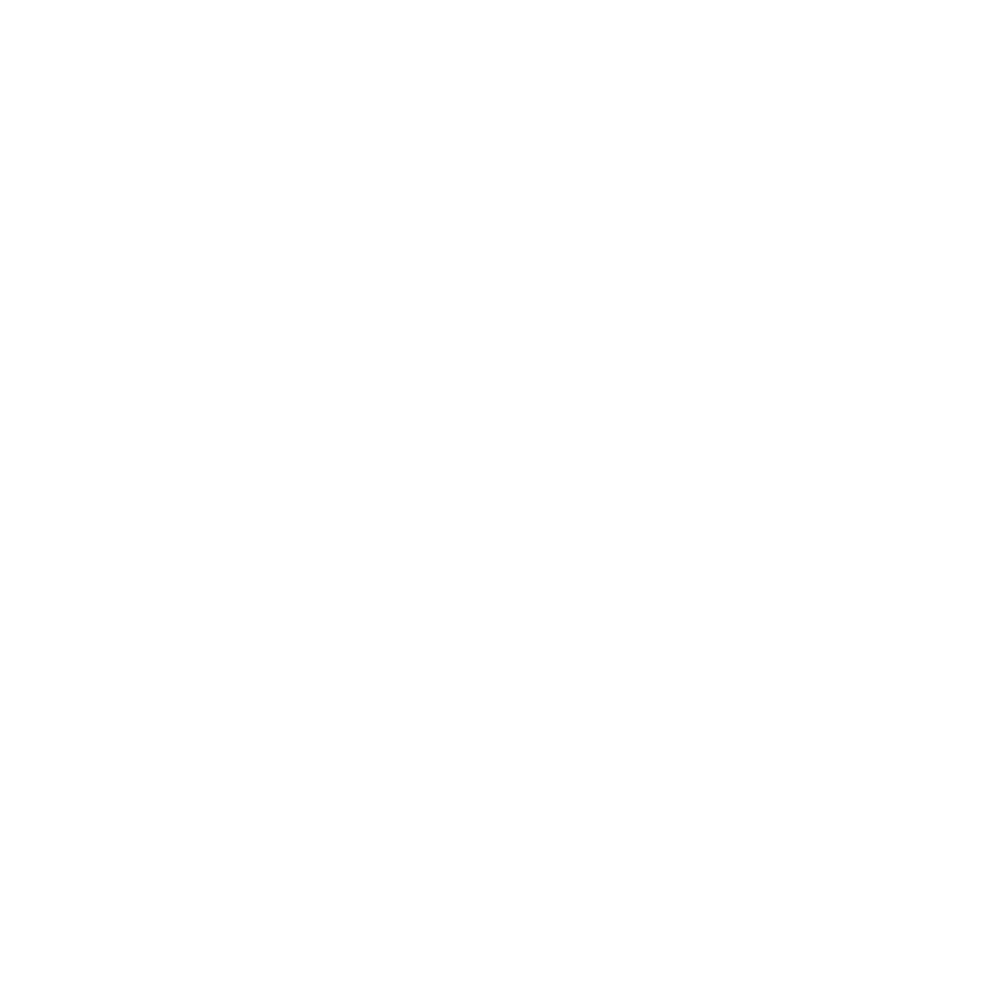
Жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» подвело итоги. Главный приз с формулировкой «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами» получила короткометражка Ланы Влади «Сера». Психологический триллер по рассказу Дмитрия Глуховского рассказывает о девушке — лейтенанте полиции, — которая приезжает в Норильск, чтобы допросить подозреваемую в убийстве. Диалог-дуэль двух героинь оказывается довольно неожиданным.
Диплом жюри получил фильм «Открой, это мама» о сложных дочерне-материнских отношениях — за «тонкое соединение документального и игрового». Еще одного диплома удостоилась драма «Варя» о девушке-пожарном, которую играет Варвара Шмыкова. «Варя — ты огонь!» — именно с такой формулировкой жюри под председательством Клима Шипенко наградило картину.
Члены Гильдии киноведов и кинокритиков России оказались солидарны с жюри — они выделили «Серу» «За социальную точность и художественный аскетизм». А дипломом отметили работу Кристины Манжулы «Я люблю Еву» — «За артистизм в осмыслении жанра».
Диплом жюри получил фильм «Открой, это мама» о сложных дочерне-материнских отношениях — за «тонкое соединение документального и игрового». Еще одного диплома удостоилась драма «Варя» о девушке-пожарном, которую играет Варвара Шмыкова. «Варя — ты огонь!» — именно с такой формулировкой жюри под председательством Клима Шипенко наградило картину.
Члены Гильдии киноведов и кинокритиков России оказались солидарны с жюри — они выделили «Серу» «За социальную точность и художественный аскетизм». А дипломом отметили работу Кристины Манжулы «Я люблю Еву» — «За артистизм в осмыслении жанра».
Брифинг
Что выбирают дебютанты?
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР»
Брифинг «Что выбирают дебютанты?» прошел после того, как весь конкурс короткого метра уже был показан и можно было обсуждать — не столько увиденное, сколько неувиденное и требующее серьезного разговора.
Его инициировал Александр Роднянский, вопросы которого к конкурсу были фундаментальными и сложными, но, конечно, назрели они далеко не в этом году. И не в этом решатся, разумеется. Всем присутствующим было предложено обсудить две темы.
Во-первых, при всей своей профессиональной безукоризненности (режиссура, сценарий, операторская работа, свет, сеттинг, актеры и т. п.) фильмы, которые предлагают «Кинотавру», редко имеют отношение к сегодняшней реальности. Стоит посмотреть фильмы 60-х годов — и, не заглядывая в учебники, можно многое узнать про то время и людей, которые жили именно тогда, — напомнил Роднянский. А те фильмы, которые снимают сегодня молодые авторы, могли бы быть сняты 10 лет назад, и разницы не было бы. Они не проговаривают время, в них нет контекста, не обязательно политического. Никто не требует от них следования конъюнктуре, например непременного присутствия элементов новой этики, и даже наоборот: те, кто намеренно вводит актуальные темы, чтобы попасть на фестивали, обязательно проигрывают.
На «Кинотавр» в этом году было предложено 324 фильмов — это 85 часов чистого экранного времени, но их очень тяжело смотреть, потому что в них нет вот этого ощущения, проживания автором своей жизни через экранный опыт.
Его инициировал Александр Роднянский, вопросы которого к конкурсу были фундаментальными и сложными, но, конечно, назрели они далеко не в этом году. И не в этом решатся, разумеется. Всем присутствующим было предложено обсудить две темы.
Во-первых, при всей своей профессиональной безукоризненности (режиссура, сценарий, операторская работа, свет, сеттинг, актеры и т. п.) фильмы, которые предлагают «Кинотавру», редко имеют отношение к сегодняшней реальности. Стоит посмотреть фильмы 60-х годов — и, не заглядывая в учебники, можно многое узнать про то время и людей, которые жили именно тогда, — напомнил Роднянский. А те фильмы, которые снимают сегодня молодые авторы, могли бы быть сняты 10 лет назад, и разницы не было бы. Они не проговаривают время, в них нет контекста, не обязательно политического. Никто не требует от них следования конъюнктуре, например непременного присутствия элементов новой этики, и даже наоборот: те, кто намеренно вводит актуальные темы, чтобы попасть на фестивали, обязательно проигрывают.
На «Кинотавр» в этом году было предложено 324 фильмов — это 85 часов чистого экранного времени, но их очень тяжело смотреть, потому что в них нет вот этого ощущения, проживания автором своей жизни через экранный опыт.
Читать дальше
Второй вопрос — эстетическая несмелость картин. Недостает остроты и радикальности языка, творческого поиска, ощущаемой в каждом кадре любви к кино. Возможно, молодые боятся своими экспериментами отпугнуть потенциальных продюсеров, потому что воспринимают «Кинотавр» как что-то среднее между собеседованием перед устройством на работу и выставкой достижений киношкольного хозяйства. Именно по поиску языка отбирают новых авторов продюсеры, даже те, кто нацелен на создание блокбастеров. Примеры Кристофера Нолана, Райана Куглера, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и многих других об этом свидетельствуют вполне красноречиво. Продюсеры хотят необычных и ярких людей. При этом необязательно надо получить призы, чтобы доказать свою состоятельность. За призом Каннского МКФ за короткий метр не всегда следует выдающееся кино. Более того, мало кто из лауреатов сделал хороший полный метр. А многие вообще ушли из кино.
Но нужно, чтобы у фильма была индивидуальность, и у автора — тоже. Отчасти это иногда подавляется киношколой, которая выпестовала режиссера. Где-то сразу готовят словно на производство телесериалов, и короткие метры похожи на фрагмент эпизодов этих шоу. Где-то, как в Московской школе нового кино, — движение в сторону отсутствия нарратива, драматургии. В их фильмах нет истории, повествования. Режиссеры так борются за правду, что в результате в их фильмах есть правда, но нет истории. А в фильмах других школ часто есть история, но без правды.
Александр Роднянский посетовал, что ушел из кинопреподавания, потому что среди студентов было слишком мало интересных людей, любящих и знающих кино. И это стало главной проблемой новых фильмов, по крайней мере тех, что приходят на «Кинотавр».
Аудитория брифинга попыталась дать некое объяснение заявленным проблемам. Возможно, режиссеры радикальных фильмов просто не считают, что «Кинотавру» это интересно, и поэтому не посылают свои заявки. Хотя это означает лишь то, что они плохо следят за программой фестиваля. Может быть, проблема в том, что они не только не посылают такое кино, но и не снимают его, руководясь самоцензурой, а иногда и просто страхом. Кто-то считает, что лучше всего заявить о себе с помощью короткой комедии, профессионально снятого анекдота. За это не накажут, а может, и работу предложат. У некоторых авторов были проблемы с продюсерами.
Резо Гигинеишвили, например, рассказал о том, как авторы приходят к продюсерам, начитавшимся дешевых западных пособий по созданию кинохитов, и те сразу начинают загонять режиссеров и сценаристов в прокрустовы объятия арок, актов и других мантр якобы большого кино. Сначала автора подавляют в киношколе, потом на него обрушивается продюсерский диктат, а затем на «Кинотавре» у него спрашивают, почему у него такое несмелое кино.
На это Александр Роднянский ответил, что целью брифинга было озвучить одну простую мысль, и было бы очень хорошо, чтобы все конкурсанты короткого метра (и не только) ее услышали. Надо быть свободными. И успех не заставит себя ждать.
основной конкурс
Давайте начнем с девяностых. У вас с ними свои счеты?
«Маша» все-таки не о девяностых, она — о детях девяностых. О том, как в девяностые взрослеет девочка и мечтает петь джаз. «Маша» — о тех, кому тогда было 12, 13, 14 лет. Они уже не такие маленькие, чтобы совсем ничего не видеть и не понимать, но еще и не 20- и не 17-летние, чтобы участвовать во всем наравне со взрослыми. Понимаете, как вышло: пока большие дяди и старшие братья делали то, что они делают в «Бумере», в «Бригаде» и у Балабанова, где-то рядом были дети. Про которых взрослые как-то забыли. А дети росли-росли и вот выросли в нынешних 35—40-летних. Во взрослую Машу.
Но все же новый интерес к девяностым вам очевиден? В прошлом году на «Кинотавре», например, победил фильм «Бык».
Да, конечно, очевиден. Был еще замечательный «Хрусталь» — самый первый фильм о «новых девяностых». Еще «Печень», которую я пока не видела. Но «Маше» не нужны подробности криминальных разборок, это все уже видели сто тысяч раз. Мне важно то, как убийства, отжатые рынки и новые взрослые отзываются в девочке, которая шастает там между ними и потихоньку становится женщиной.
Вы ведь понимаете: то, что в ближайшее время будет происходить со страной, будет определять поколение тех, кто рос и взрослел в девяностые.
Мое поколение относят к более молодым ребятам, к нынешним 30-летним, как будто мы вместе с ними про несовок, про незапрещенную музыку и кино, про компьютеры, интернет-платформы, как будто мы уже все вместе дети новой страны. А ведь это не совсем так. Почти каждый день, когда я шла на остановку, чтобы ехать в школу, на улице стреляли. И я мгновенно падала под припаркованную машину, очень буднично падала, привычно — пережидала. Так умели делать все мои ровесники. Во всяком случае те, кто вырос в провинции. Потом я спокойно отряхивалась и шла на урок обсуждать Евгения Онегина. Такие вещи должны оставлять след, мне думается. Они формируют какое-то другое отношение к социуму, к смерти, к свободе.
Ваша героиня же по факту радикально прощается с прошлым. А стоит ли это делать, если оно остается здесь и сейчас?
Оно не остается, просто любое настоящее тащит прошлое в своем анамнезе. Попрощаться с прошлым так, чтобы сделать работу над ошибками и отпустить, у нас не очень выходит. Поэтому прощаемся как умеем. В этом смысле Маша, героиня, очень похожа на страну, в которой выросла. Не буду спойлерить, но в сценарии был другой финал. Финал, о котором я по-человечески мечтала. Если угодно, финал, которым мне хотелось бы, чтобы закончились девяностые. Но когда я смотрела материал с площадки, смотрела, как Аня Чиповская исполнила последнюю песню, то поняла, что фильм хочет закончиться иначе. Так что за три дня до съемок мы с группой решили, что снимем два варианта финала. На монтаже я пыталась протащить финал, который написала когда-то в тексте. Но фильм не дал этого сделать. Фильм сказал: «Пошла-ка ты, Пальчикова, со своим мнением», — и закончился так, как закончился. Наверное, если бы мы вышли из девяностых по-другому, у фильма мог бы быть другой финал, теперь уже не узнаешь.
«Маша» все-таки не о девяностых, она — о детях девяностых. О том, как в девяностые взрослеет девочка и мечтает петь джаз. «Маша» — о тех, кому тогда было 12, 13, 14 лет. Они уже не такие маленькие, чтобы совсем ничего не видеть и не понимать, но еще и не 20- и не 17-летние, чтобы участвовать во всем наравне со взрослыми. Понимаете, как вышло: пока большие дяди и старшие братья делали то, что они делают в «Бумере», в «Бригаде» и у Балабанова, где-то рядом были дети. Про которых взрослые как-то забыли. А дети росли-росли и вот выросли в нынешних 35—40-летних. Во взрослую Машу.
Но все же новый интерес к девяностым вам очевиден? В прошлом году на «Кинотавре», например, победил фильм «Бык».
Да, конечно, очевиден. Был еще замечательный «Хрусталь» — самый первый фильм о «новых девяностых». Еще «Печень», которую я пока не видела. Но «Маше» не нужны подробности криминальных разборок, это все уже видели сто тысяч раз. Мне важно то, как убийства, отжатые рынки и новые взрослые отзываются в девочке, которая шастает там между ними и потихоньку становится женщиной.
Вы ведь понимаете: то, что в ближайшее время будет происходить со страной, будет определять поколение тех, кто рос и взрослел в девяностые.
Мое поколение относят к более молодым ребятам, к нынешним 30-летним, как будто мы вместе с ними про несовок, про незапрещенную музыку и кино, про компьютеры, интернет-платформы, как будто мы уже все вместе дети новой страны. А ведь это не совсем так. Почти каждый день, когда я шла на остановку, чтобы ехать в школу, на улице стреляли. И я мгновенно падала под припаркованную машину, очень буднично падала, привычно — пережидала. Так умели делать все мои ровесники. Во всяком случае те, кто вырос в провинции. Потом я спокойно отряхивалась и шла на урок обсуждать Евгения Онегина. Такие вещи должны оставлять след, мне думается. Они формируют какое-то другое отношение к социуму, к смерти, к свободе.
Ваша героиня же по факту радикально прощается с прошлым. А стоит ли это делать, если оно остается здесь и сейчас?
Оно не остается, просто любое настоящее тащит прошлое в своем анамнезе. Попрощаться с прошлым так, чтобы сделать работу над ошибками и отпустить, у нас не очень выходит. Поэтому прощаемся как умеем. В этом смысле Маша, героиня, очень похожа на страну, в которой выросла. Не буду спойлерить, но в сценарии был другой финал. Финал, о котором я по-человечески мечтала. Если угодно, финал, которым мне хотелось бы, чтобы закончились девяностые. Но когда я смотрела материал с площадки, смотрела, как Аня Чиповская исполнила последнюю песню, то поняла, что фильм хочет закончиться иначе. Так что за три дня до съемок мы с группой решили, что снимем два варианта финала. На монтаже я пыталась протащить финал, который написала когда-то в тексте. Но фильм не дал этого сделать. Фильм сказал: «Пошла-ка ты, Пальчикова, со своим мнением», — и закончился так, как закончился. Наверное, если бы мы вышли из девяностых по-другому, у фильма мог бы быть другой финал, теперь уже не узнаешь.
Читать дальше
Вы говорили, что писали сценарий долго, практически всю свою жизнь. Как у вас эта история вызрела?
Шесть лет назад я впервые стала рассказывать о своем детстве и с удивлением увидела, что многим это интересно. Тогда я стала собирать, менять, доделывать, допридумывать эти истории — и вот появился сценарий под названием «Маша». Вернее, сначала синопсис. Текст долго ходил по продюсерам и режиссерам. Многие хотели его делать. В конце концов он оказался у Валеры с Женей (Валерий Федорович и Евгений Никишов. — Прим. ред.). А потом и у Рубена (Рубен Дишдишян — Прим. ред.). И они сделали.
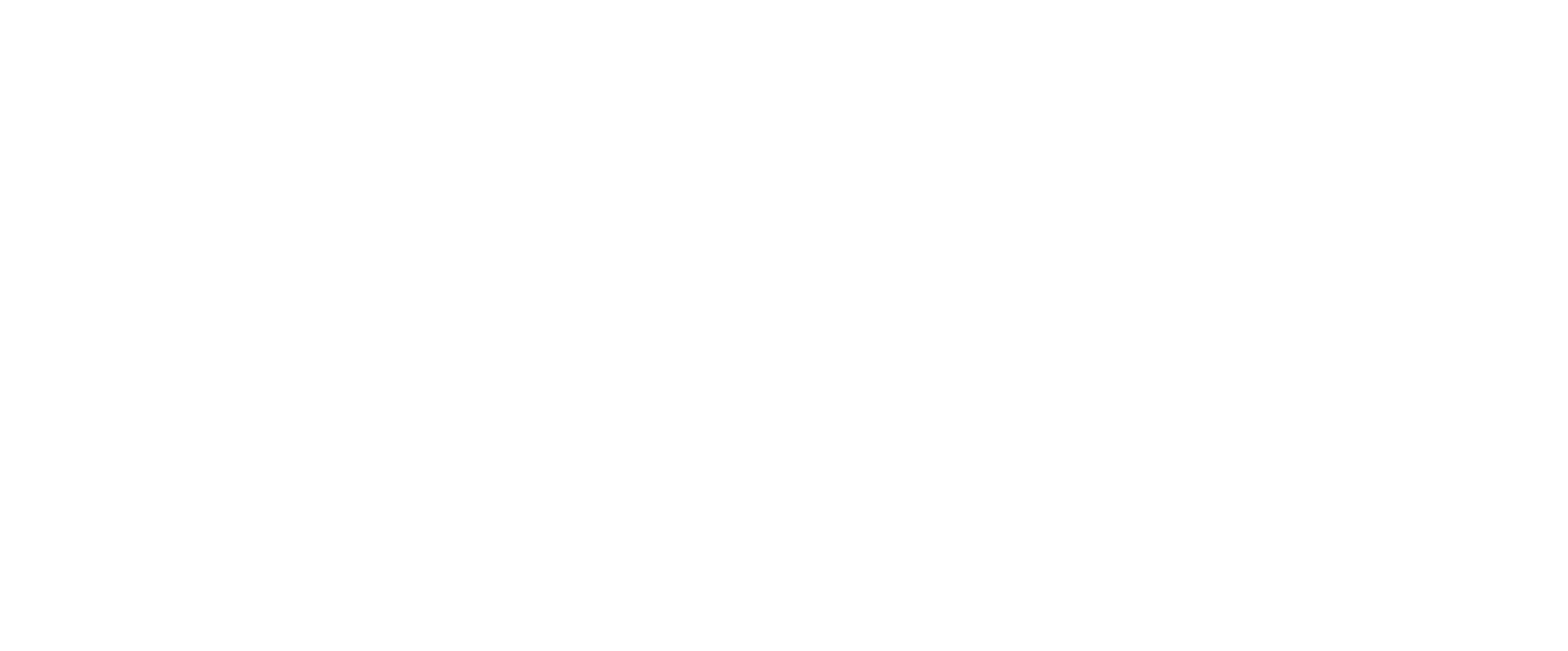
История про ваше детство — можете провести границу между реальностью и вымыслом?
Не могу. Я обещала маме, что не стану этого делать. Просто смотрите кино, совершенно не важно, что там вымысел, а что — нет. Точно могу сказать про одну правду: смех, пляски и песни, которые там есть, — это моя реальность. И это мамина заслуга, она мне это передала. У нас в девяностых был период, когда мы оказались совершенно нищими, маме в буквальном смысле нечего было жрать, она кормила меня старыми туристическими супами, которые остались от их с папой турслетов, а сама вообще не ела по нескольку дней. Но мы с ней даже тогда очень много хохотали и слушали много музыки, даже в голод.
Вы рассказывали, как в 13 лет ушли из дома. Это что такое было?
В 13 с половиной. Да, но это к фильму не относится, это относится к моему скверному характеру и моим попыткам жить самостоятельно. Я просто рано стала выпендриваться и жить как хочу. Тогда мама сказала: раз я живу за ее счет, то должна соблюдать условия, которые она ставит. Если я соблюдать условия не хочу, значит, «иди, живи самостоятельно, но и корми себя сама». Мама была уверена, что человек в 13 с половиной лет никуда не денется и будет вынужден пойти на уступки. А я сказала: «Ок, поняла», — и ушла из дома.
Где вы жили?
В заброшенном доме. Одна. С виолончелью. Ходила в школу, занималась.
А зарабатывали как?
Никак. Работать я начала позже, в 14. Но ребенок быстро найдет себе пропитание. Меня бабушка подкармливала. А еще тетка одна на рынке меня арбузами кормила. Эта продавщица, узнав, что я из дома сбежала, не стала причитать: «Ах, какой кошмар!» А просто сказала: «Понятно, бери мои арбузы и ешь бесплатно». И я была благодарна, не столько за арбузы, сколько за то, что она отнеслась ко мне с уважением. Арбузы я до сих пор обожаю. Потом мы с мамой помирились, пересмотрели условия совместного проживания, и я вернулась. У меня были весьма скверные отношения с мамой до довольно позднего периода. Но в какой-то момент я все-таки выросла и поняла, что очень сильно ее люблю. Сейчас у нас с мамой все хорошо. Мама, если ты вдруг это прочтешь, прости, что я так много рассказываю о нас, я знаю, ты будешь недовольна, но, поверь, в этом нет ничего страшного, это нестыдно, папа бы это одобрил, и я тебя люблю.
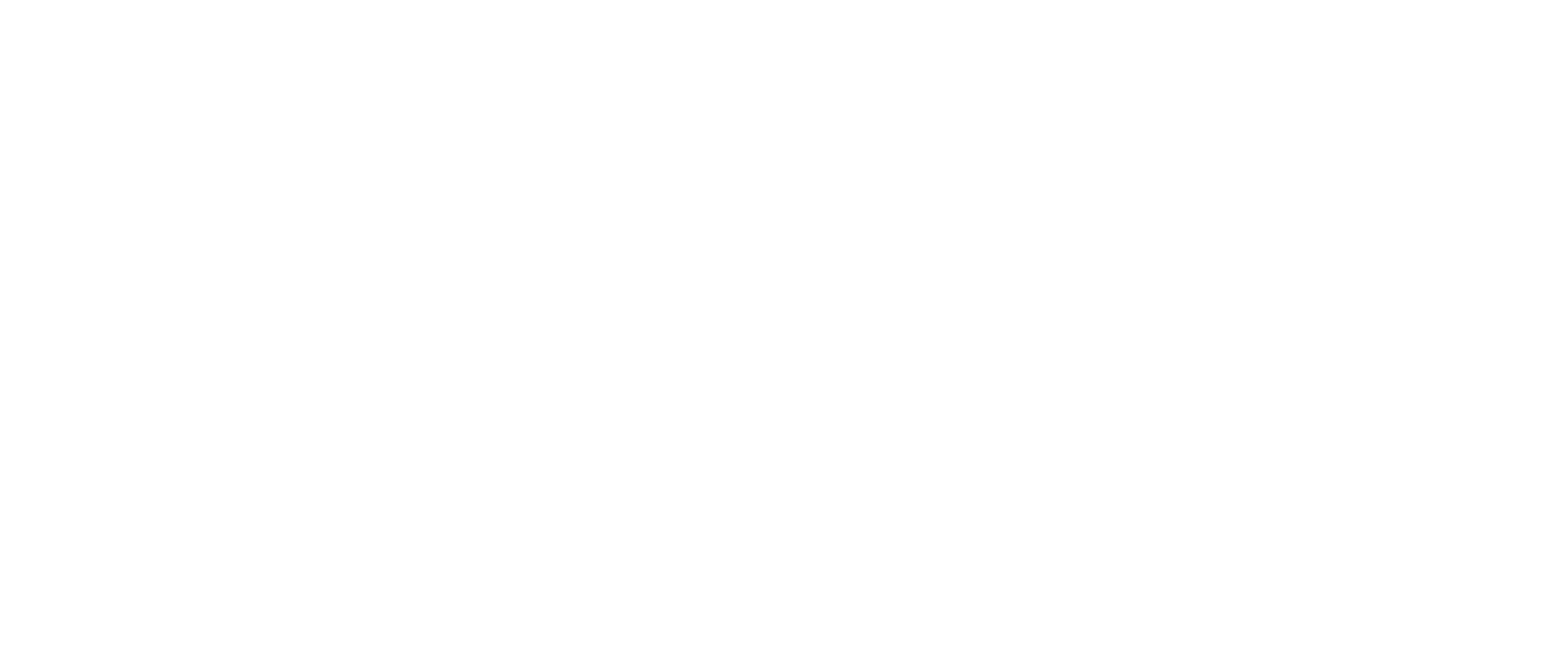
Что еще важно учитывать, когда показываешь такое суровое время глазами ребенка?
Был момент, когда мне казалось, что в этом фильме надо всех подробно рассмотреть: парней, их девок, похитителей, теток на рынке. Маша виделась мне только проводником. В сценарии так и было: большое полотно, где каждого героя можно увидеть в деталях, разглядеть складки его одежды и лицо. Уже на раскадровке все изменилось, и еще больше — на съемках и монтаже. Девочка стала центром, все остальные, вся эпоха выхвачены через нее.
Что ваши актеры, особенно свидетели того времени, привнесли в своих персонажей?
Актеры всегда что-нибудь свое привносят. Максим Суханов очень многое предложил — я отвечала на свои вопросы о девяностых, а он — на свои.
Так же, как и все, кто снимался в этом фильме.
Бывший милиционер, а теперь актер Сергей Борисов — точно.
Да, Сережа в первую очередь. Когда снимали сцену поджога, он тоже был на площадке. Посмотрел, как герой проникает в квартиру, и сказал: «Все очень правильно делаете с отмычками, но нужно жвачкой залепить глазок в соседней квартире». И точно, а мы чуть не просрали! В фильме это есть — вы увидите, как герой Саши Мизева заклеивает глазок. Так что спасибо Борисову за деталь.
Вас как музыканта интересно спросить: как вы работали с музыкой в фильме?
Джаз — это второе, что появилось в этой истории после героини. Первоначально сценарий вообще был разбит по главам — по названию песен. Cheek to Cheek, At Last и остальные композиции — я долго подбирала джазовые стандарты. Сразу было понятно, что столько известного джаза в фильме — это дорого. К счастью, продюсеры были согласны с музыкой, они понимали, что джаз в этой истории — персонаж.
Был момент, когда мне казалось, что в этом фильме надо всех подробно рассмотреть: парней, их девок, похитителей, теток на рынке. Маша виделась мне только проводником. В сценарии так и было: большое полотно, где каждого героя можно увидеть в деталях, разглядеть складки его одежды и лицо. Уже на раскадровке все изменилось, и еще больше — на съемках и монтаже. Девочка стала центром, все остальные, вся эпоха выхвачены через нее.
Что ваши актеры, особенно свидетели того времени, привнесли в своих персонажей?
Актеры всегда что-нибудь свое привносят. Максим Суханов очень многое предложил — я отвечала на свои вопросы о девяностых, а он — на свои.
Так же, как и все, кто снимался в этом фильме.
Бывший милиционер, а теперь актер Сергей Борисов — точно.
Да, Сережа в первую очередь. Когда снимали сцену поджога, он тоже был на площадке. Посмотрел, как герой проникает в квартиру, и сказал: «Все очень правильно делаете с отмычками, но нужно жвачкой залепить глазок в соседней квартире». И точно, а мы чуть не просрали! В фильме это есть — вы увидите, как герой Саши Мизева заклеивает глазок. Так что спасибо Борисову за деталь.
Вас как музыканта интересно спросить: как вы работали с музыкой в фильме?
Джаз — это второе, что появилось в этой истории после героини. Первоначально сценарий вообще был разбит по главам — по названию песен. Cheek to Cheek, At Last и остальные композиции — я долго подбирала джазовые стандарты. Сразу было понятно, что столько известного джаза в фильме — это дорого. К счастью, продюсеры были согласны с музыкой, они понимали, что джаз в этой истории — персонаж.
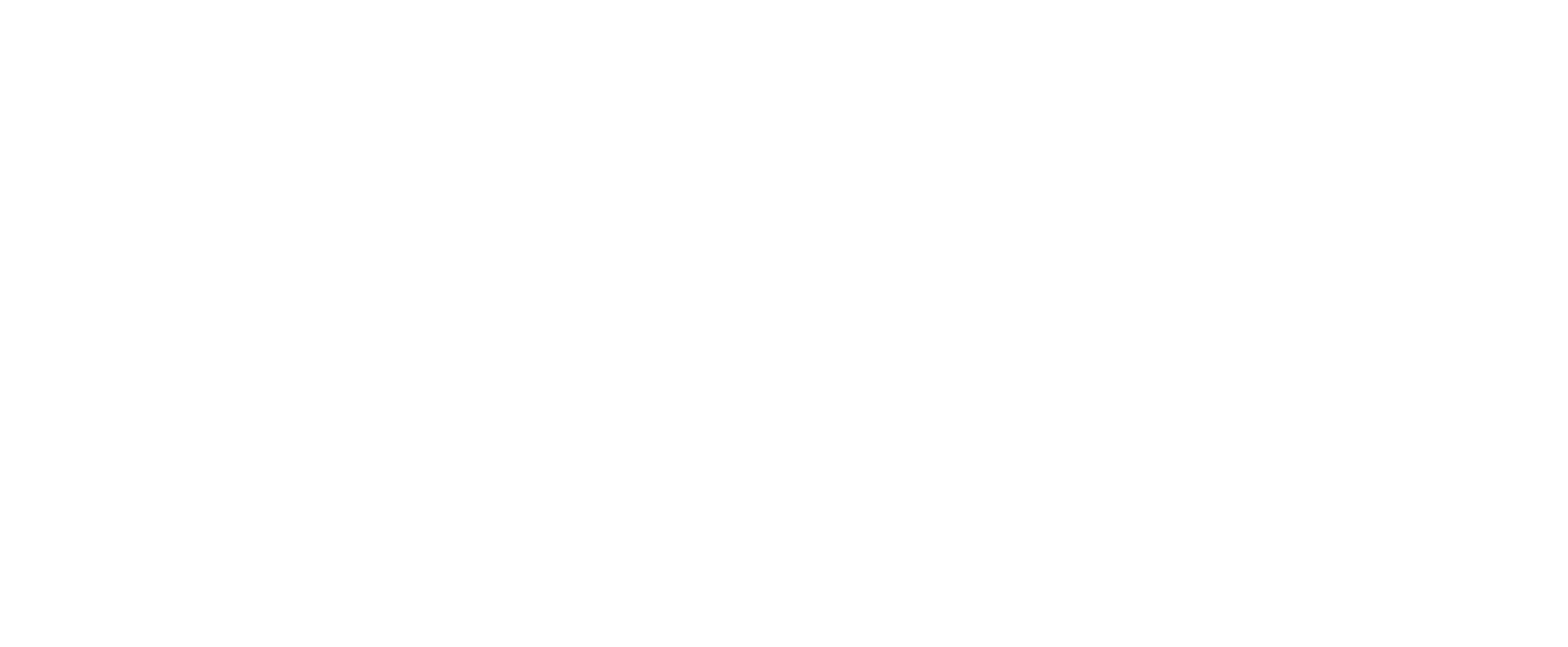
А музыка девяностых?
Сначала я вообще не планировала использовать никакую другую музыку, кроме джаза. Но когда мы монтировали, стало понятно, что нужен музыкальный противовес.
Насколько дорогая музыка девяностых на волне интереса к ним?
По сравнению с мировыми стандартами джаза это смешные деньги.
И группа «Нэнси»?
«Дым сигарет с ментолом» как раз была с самого начала. Я под нее писала сцену, и мы включали ее на площадке, когда снимали. А джазовые стандарты исполняли сами артисты. Чиповская вообще пела живьем, прямо на площадке, дубль за дублем. Она блестяще поет. Снимать поющую Аню — наслаждение. Когда человек подходит к микрофону, всегда видно, подходит он к нему второй раз в жизни или он действительно умеет с ним обращаться. Аня умеет. С Полиной Гухман мы некоторые песни записали заранее в студии, но пела она все сама, ну и что-то она тоже пела прямо в дублях, живьем. Оля Федотова тоже сама исполнила At Last.
Вы-то сейчас на виолончели поигрываете?
Мне муж (режиссер и актер Алексей Смирнов. — Прим. ред.) подарил виолончель, заставляет снова играть. У нас с ним есть домашняя шутка, что когда я перестаю играть на виолончели, в мире начинает твориться хрен знает что. Когда началась пандемия и закрылись границы, муж сказал: «Ну понятно, из-за чего это все — из-за того, что ты на виолончели не играешь». Но, понимаете, на пианино или гитаре можно не играть три года, а потом взять и что-то сбацать. Не здорово, с потерей техники, но можно. А вот на струнных так не получится: чтобы поигрывать, как вы выражаетесь, на виолончели, надо каждый день фигачить гаммы и этюды по два часа. И тогда, спустя время, есть шанс, что ты сможешь что-то наиграть. Я пока восстановила половину «Вокализа» Рахманинова — и все. Нужно, чтобы пальцы забегали, и звук заново поставить.
Говорят, у вас какое-то бурное оркестровое прошлое в Саратове.
(Смеется.) Так, видимо, говорят те, кто читал сценарий сериала «Квартет».
Или видел его пилот на фестивале «Движение».
Конечно, в «Квартете» есть реальная основа, но бурное оркестровое прошлое — это обычная жизнь классического музыканта в музучилище. Все представления о том, что это люди, которые ходят по воздуху и какают апельсинами, — ложь. Это одни из самых трешовых людей на свете. То количество ситуаций, в которые они влипают, бухла, которое выпивают, и та степень свободы, с которой они взаимодействуют с жизнью, — просто поразительны.
Сначала я вообще не планировала использовать никакую другую музыку, кроме джаза. Но когда мы монтировали, стало понятно, что нужен музыкальный противовес.
Насколько дорогая музыка девяностых на волне интереса к ним?
По сравнению с мировыми стандартами джаза это смешные деньги.
И группа «Нэнси»?
«Дым сигарет с ментолом» как раз была с самого начала. Я под нее писала сцену, и мы включали ее на площадке, когда снимали. А джазовые стандарты исполняли сами артисты. Чиповская вообще пела живьем, прямо на площадке, дубль за дублем. Она блестяще поет. Снимать поющую Аню — наслаждение. Когда человек подходит к микрофону, всегда видно, подходит он к нему второй раз в жизни или он действительно умеет с ним обращаться. Аня умеет. С Полиной Гухман мы некоторые песни записали заранее в студии, но пела она все сама, ну и что-то она тоже пела прямо в дублях, живьем. Оля Федотова тоже сама исполнила At Last.
Вы-то сейчас на виолончели поигрываете?
Мне муж (режиссер и актер Алексей Смирнов. — Прим. ред.) подарил виолончель, заставляет снова играть. У нас с ним есть домашняя шутка, что когда я перестаю играть на виолончели, в мире начинает твориться хрен знает что. Когда началась пандемия и закрылись границы, муж сказал: «Ну понятно, из-за чего это все — из-за того, что ты на виолончели не играешь». Но, понимаете, на пианино или гитаре можно не играть три года, а потом взять и что-то сбацать. Не здорово, с потерей техники, но можно. А вот на струнных так не получится: чтобы поигрывать, как вы выражаетесь, на виолончели, надо каждый день фигачить гаммы и этюды по два часа. И тогда, спустя время, есть шанс, что ты сможешь что-то наиграть. Я пока восстановила половину «Вокализа» Рахманинова — и все. Нужно, чтобы пальцы забегали, и звук заново поставить.
Говорят, у вас какое-то бурное оркестровое прошлое в Саратове.
(Смеется.) Так, видимо, говорят те, кто читал сценарий сериала «Квартет».
Или видел его пилот на фестивале «Движение».
Конечно, в «Квартете» есть реальная основа, но бурное оркестровое прошлое — это обычная жизнь классического музыканта в музучилище. Все представления о том, что это люди, которые ходят по воздуху и какают апельсинами, — ложь. Это одни из самых трешовых людей на свете. То количество ситуаций, в которые они влипают, бухла, которое выпивают, и та степень свободы, с которой они взаимодействуют с жизнью, — просто поразительны.
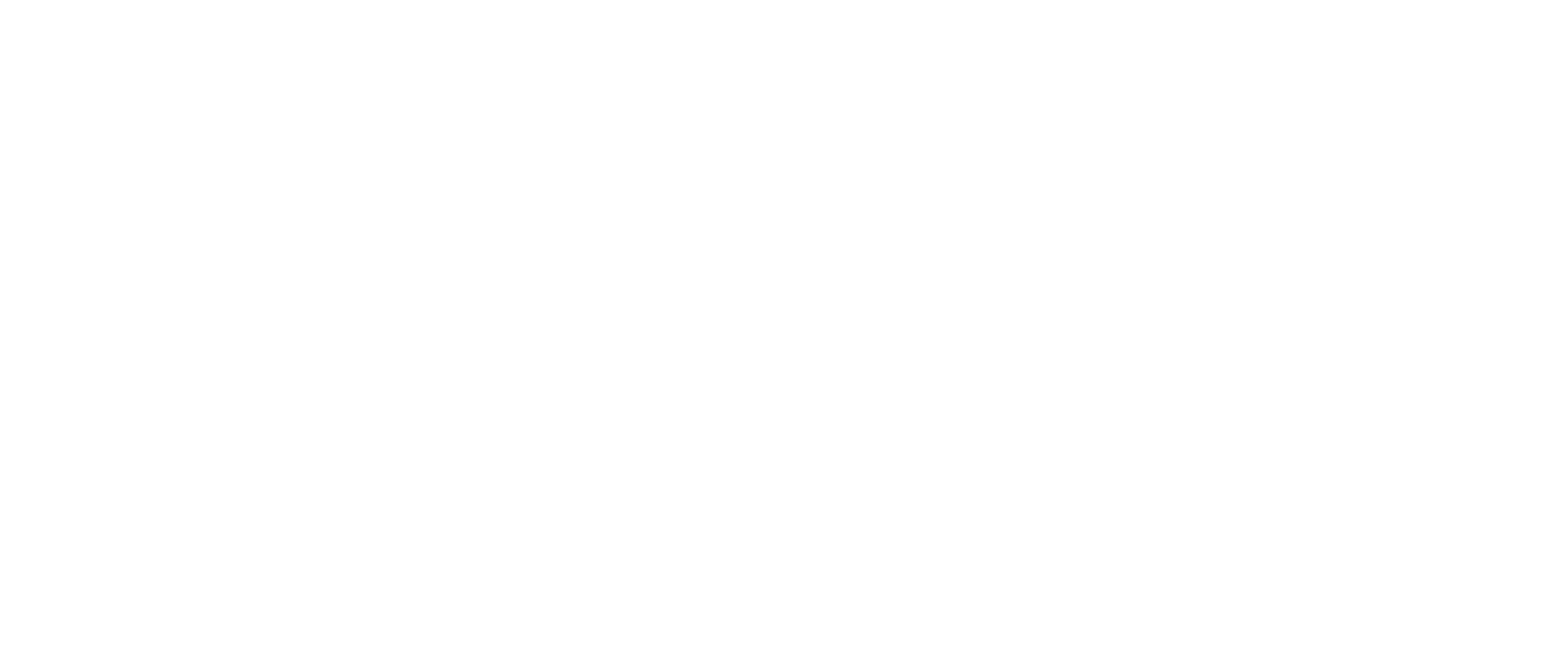
Как вы, будучи музыкантом, решили заняться кино?
Я вообще не хотела поступать в музучилище, меня заставили, о чем я, впрочем, не жалею. Я жила в Саратове и училась одновременно классической музыке и на местном филфаке, мне страшно нравилось заниматься научной деятельностью. Изучать поэтику Гоголя, делать лингвистический анализ текстов Довлатова. Но под конец третьего курса я стала чувствовать себя патологоанатомом, который копается в текстах, как в трупах, а сам ничего не создает. В музыке было то же самое — мы играли чужое. А мне хотелось делать самой.
Кино появилось случайно. Я влюбилась в парня, музыканта, который учился во ВГИКе. Сначала мы мотались между городами, потом стало ясно, что надо переезжать к нему в Москву. Поскольку я давно занималась научной деятельностью и много участвовала в чтениях в МГУ, то решила туда и перевестись. Параллельно я подала документы во ВГИК, просто потому, что там учился парень, в которого я влюбилась. А потом всплыл какой-то организационный быт — что в МГУ надо отдать не копию диплома, а подлинник, подлинник был уже во ВГИКе, нужно было его забирать, делать ксерокопии, что-то заверять, развозить обратно по вузам. И я подумала: да ну на фиг, не поступлю во ВГИК — вернусь в Саратов. Но я поступила.
До того момента я была страшно далека от кино. В Саратове у нас телевизор сломался, и мы его так и не починили. Я очень много читала, но совершенно ничего не смотрела. Даже «Иронию судьбы» не видела. Иногда у бабушки дома попадала на фильмы категории B, американские боевики про полицейских, я их до сих пор очень люблю.
Перед ВГИКом я посмотрела «Пролетая над гнездом кукушки», «Солярис» и «Восемь с половиной». Это были единственные три фильма из кинопрограммы, которые я видела на тот момент. И на сценарный я пошла, потому что про слово я хоть что-то понимала. С мальчиком я потом, конечно, рассталась, а в кино задержалась.
Что вас раньше отпугивало от полного метра и какие опасения оказались напрасными?
Ничего не отпугивало. Просто я никогда не думала, что стану сама снимать. Хотя на пятом курсе ВГИКа я сняла короткометражку, со знакомыми артистами и оператором, бесплатно. Хотела понять, как себя чувствует режиссер, чтобы лучше потом работать над сценарием. Короткометражка тогда, кстати, очень хорошо проехалась по фестивалям, мы получали призы. Когда сильно позже Леша (Алексей Смирнов. — Прим. ред.) посмотрел мой короткий метр, он сказал: «Если б я тебя не знал, сказал бы, что этой девке надо быть режиссером, только нормального сценариста найти, — все в этом фильме отлично, кроме истории». Я смеялась. Хотя, мне кажется, нормально там все было с историей. В общем, видимо, я просто ждала, когда прорвет и появится необходимость снимать.
А что касается опасений, то я ужасно переживала, что сценарист слишком сценарист на площадке, понимаете? Держится за свой текст, не интерпретирует его, а заставляет всех неукоснительно ему следовать.
И вот это оказалось совершенно напрасным переживанием. Единственным человеком на площадке, который с прибором положил на сценарий, была я. Ко мне периодически подходили оператор Глеб Филатов и второй режиссер Ксюша Кукина и говорили: «Насть, ничего, что вот тут в сценарии у нас по-другому написано? Может, останемся в рамках сценария?». А я отвечала: «Вы видите тут сценариста на площадке? Я — нет».
Я вообще не хотела поступать в музучилище, меня заставили, о чем я, впрочем, не жалею. Я жила в Саратове и училась одновременно классической музыке и на местном филфаке, мне страшно нравилось заниматься научной деятельностью. Изучать поэтику Гоголя, делать лингвистический анализ текстов Довлатова. Но под конец третьего курса я стала чувствовать себя патологоанатомом, который копается в текстах, как в трупах, а сам ничего не создает. В музыке было то же самое — мы играли чужое. А мне хотелось делать самой.
Кино появилось случайно. Я влюбилась в парня, музыканта, который учился во ВГИКе. Сначала мы мотались между городами, потом стало ясно, что надо переезжать к нему в Москву. Поскольку я давно занималась научной деятельностью и много участвовала в чтениях в МГУ, то решила туда и перевестись. Параллельно я подала документы во ВГИК, просто потому, что там учился парень, в которого я влюбилась. А потом всплыл какой-то организационный быт — что в МГУ надо отдать не копию диплома, а подлинник, подлинник был уже во ВГИКе, нужно было его забирать, делать ксерокопии, что-то заверять, развозить обратно по вузам. И я подумала: да ну на фиг, не поступлю во ВГИК — вернусь в Саратов. Но я поступила.
До того момента я была страшно далека от кино. В Саратове у нас телевизор сломался, и мы его так и не починили. Я очень много читала, но совершенно ничего не смотрела. Даже «Иронию судьбы» не видела. Иногда у бабушки дома попадала на фильмы категории B, американские боевики про полицейских, я их до сих пор очень люблю.
Перед ВГИКом я посмотрела «Пролетая над гнездом кукушки», «Солярис» и «Восемь с половиной». Это были единственные три фильма из кинопрограммы, которые я видела на тот момент. И на сценарный я пошла, потому что про слово я хоть что-то понимала. С мальчиком я потом, конечно, рассталась, а в кино задержалась.
Что вас раньше отпугивало от полного метра и какие опасения оказались напрасными?
Ничего не отпугивало. Просто я никогда не думала, что стану сама снимать. Хотя на пятом курсе ВГИКа я сняла короткометражку, со знакомыми артистами и оператором, бесплатно. Хотела понять, как себя чувствует режиссер, чтобы лучше потом работать над сценарием. Короткометражка тогда, кстати, очень хорошо проехалась по фестивалям, мы получали призы. Когда сильно позже Леша (Алексей Смирнов. — Прим. ред.) посмотрел мой короткий метр, он сказал: «Если б я тебя не знал, сказал бы, что этой девке надо быть режиссером, только нормального сценариста найти, — все в этом фильме отлично, кроме истории». Я смеялась. Хотя, мне кажется, нормально там все было с историей. В общем, видимо, я просто ждала, когда прорвет и появится необходимость снимать.
А что касается опасений, то я ужасно переживала, что сценарист слишком сценарист на площадке, понимаете? Держится за свой текст, не интерпретирует его, а заставляет всех неукоснительно ему следовать.
И вот это оказалось совершенно напрасным переживанием. Единственным человеком на площадке, который с прибором положил на сценарий, была я. Ко мне периодически подходили оператор Глеб Филатов и второй режиссер Ксюша Кукина и говорили: «Насть, ничего, что вот тут в сценарии у нас по-другому написано? Может, останемся в рамках сценария?». А я отвечала: «Вы видите тут сценариста на площадке? Я — нет».
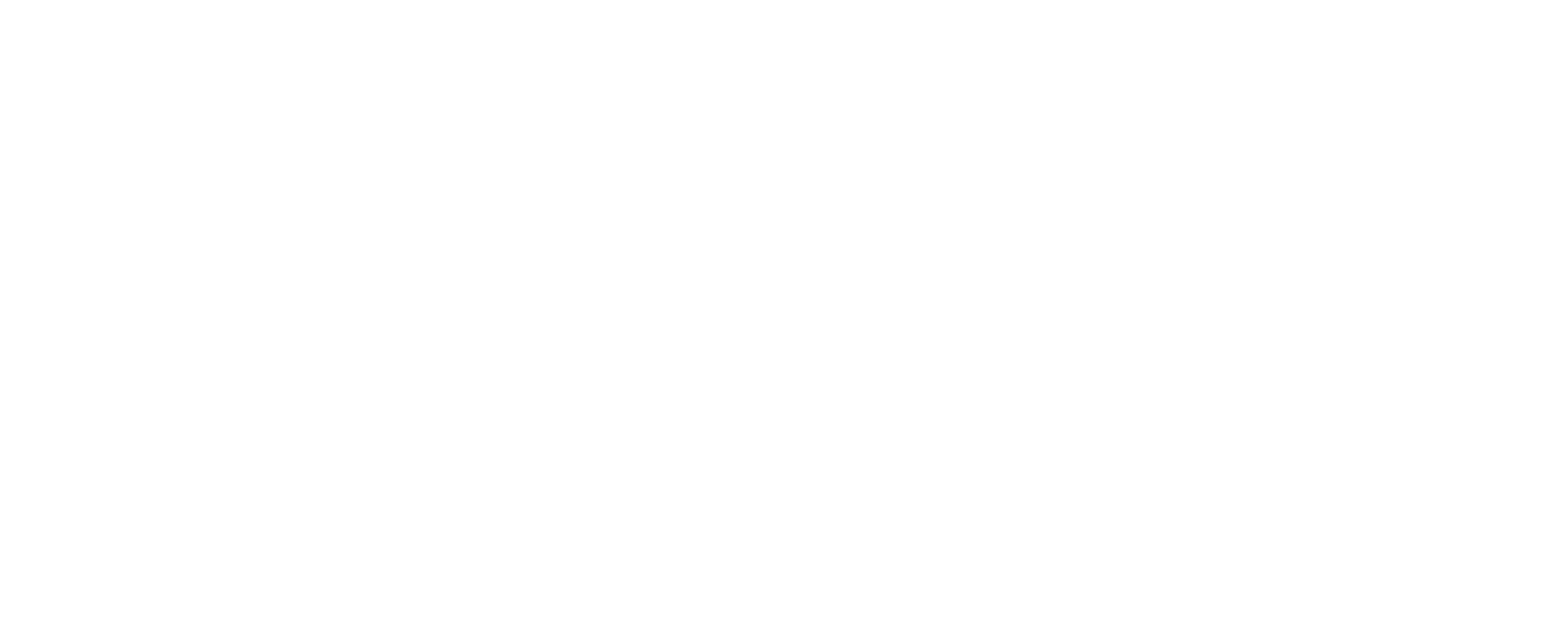
О работе с Валерием Тодоровским над фильмом «Большой» вы рассказываете как о случайности и чуде. Вы все-таки понимаете, что было с вашей стороны ключом к этому сотрудничеству?
Да потому что это правда было чудо. Меня искали и дозванивались до меня целый месяц, а я не понимала, что мне предлагают, очень неохотно отвечала: «Ну давайте, ну попробуем». То, что они не повесили трубку после первого такого разговора, — чудо. А работать с Валерой над сценарием — счастье. Он один из немногих в этой стране режиссеров и продюсеров, которые понимают в сценариях. Он отлично чувствует текст, знает, что текст и фильм первичны, уважает историю, умеет разговаривать с автором, умеет правильно автора мотивировать.
Некоторые молодые авторы очень легко прогибаются в работе с опытными продюсерами, соглашаются на любые правки, а еще — работают бесплатно, ради фильмографии. Можете посоветовать: как молодому автору отстаивать свои интересы — и художественные, и финансовые? Мы знаем, что вам это отлично удается.
Как вы тактично это сформулировали.
Конечно, можно иначе: как просить столько бабла за сценарий?
Просто надо написать этот сценарий круто. (Смеется.) Но давайте разделим: есть отстаивание художественных моментов работы. А есть создание условий, в том числе и финансовых, в которых ты сможешь выдать лучший текст.
Что касается отстаивания художественных моментов, то для меня это всегда важная история. За нее я буду биться до последнего, но не потому, что я, Настя Пальчикова, так хочу, а потому что того требует текст. Если ты и правда хороший сценарист, то ты не можешь позволить приклеить к своей истории любой поворот, который тебе навязывает продюсер. Мне, конечно, страшно везло в жизни и с продюсерами, и с режиссерами. Я еще ни разу не работала с кем-то, кто не понимал, что герой не действует по воле продюсерского желания. Но все равно будут в сценарии вещи, которые тебе нужно переписывать, искать, отстаивать. И это часть работы сценариста, его ответственность перед текстом. Ты обязан объяснять это и режиссеру, и продюсеру, если нужно. В том числе за это тебе платят деньги. И я вот, правда, не понимаю, когда сценаристы говорят: «Я делаю только три правки — а больше не делаю». Это как? А если правок будет четыре? Четвертую правку вы уже не станете вносить? Вот три сделали, а дальше — стоп? Чушь. Я вообще не понимаю, как можно посчитать правки в сценарий. Ты же не ботинки шьешь: вот тут подошву правее приклей, вот тут шнурок подлиннее — и готово. Написание сценария — сложнейший творческий и математический процесс. И правок всегда до фига. Сценарий нужно писать до тех пор, пока у тебя внутри не щелкнет: да, есть! А чтобы внутри щелкало правильно, приходится собой заниматься, своей духовной жизнью, если угодно. Собственно, отстаивание бабла идет ровно отсюда. Когда ты понимаешь, насколько глубоко и долго ты работаешь над сценарием, ты просто не сможешь делать это за маленькие деньги.
Да потому что это правда было чудо. Меня искали и дозванивались до меня целый месяц, а я не понимала, что мне предлагают, очень неохотно отвечала: «Ну давайте, ну попробуем». То, что они не повесили трубку после первого такого разговора, — чудо. А работать с Валерой над сценарием — счастье. Он один из немногих в этой стране режиссеров и продюсеров, которые понимают в сценариях. Он отлично чувствует текст, знает, что текст и фильм первичны, уважает историю, умеет разговаривать с автором, умеет правильно автора мотивировать.
Некоторые молодые авторы очень легко прогибаются в работе с опытными продюсерами, соглашаются на любые правки, а еще — работают бесплатно, ради фильмографии. Можете посоветовать: как молодому автору отстаивать свои интересы — и художественные, и финансовые? Мы знаем, что вам это отлично удается.
Как вы тактично это сформулировали.
Конечно, можно иначе: как просить столько бабла за сценарий?
Просто надо написать этот сценарий круто. (Смеется.) Но давайте разделим: есть отстаивание художественных моментов работы. А есть создание условий, в том числе и финансовых, в которых ты сможешь выдать лучший текст.
Что касается отстаивания художественных моментов, то для меня это всегда важная история. За нее я буду биться до последнего, но не потому, что я, Настя Пальчикова, так хочу, а потому что того требует текст. Если ты и правда хороший сценарист, то ты не можешь позволить приклеить к своей истории любой поворот, который тебе навязывает продюсер. Мне, конечно, страшно везло в жизни и с продюсерами, и с режиссерами. Я еще ни разу не работала с кем-то, кто не понимал, что герой не действует по воле продюсерского желания. Но все равно будут в сценарии вещи, которые тебе нужно переписывать, искать, отстаивать. И это часть работы сценариста, его ответственность перед текстом. Ты обязан объяснять это и режиссеру, и продюсеру, если нужно. В том числе за это тебе платят деньги. И я вот, правда, не понимаю, когда сценаристы говорят: «Я делаю только три правки — а больше не делаю». Это как? А если правок будет четыре? Четвертую правку вы уже не станете вносить? Вот три сделали, а дальше — стоп? Чушь. Я вообще не понимаю, как можно посчитать правки в сценарий. Ты же не ботинки шьешь: вот тут подошву правее приклей, вот тут шнурок подлиннее — и готово. Написание сценария — сложнейший творческий и математический процесс. И правок всегда до фига. Сценарий нужно писать до тех пор, пока у тебя внутри не щелкнет: да, есть! А чтобы внутри щелкало правильно, приходится собой заниматься, своей духовной жизнью, если угодно. Собственно, отстаивание бабла идет ровно отсюда. Когда ты понимаешь, насколько глубоко и долго ты работаешь над сценарием, ты просто не сможешь делать это за маленькие деньги.
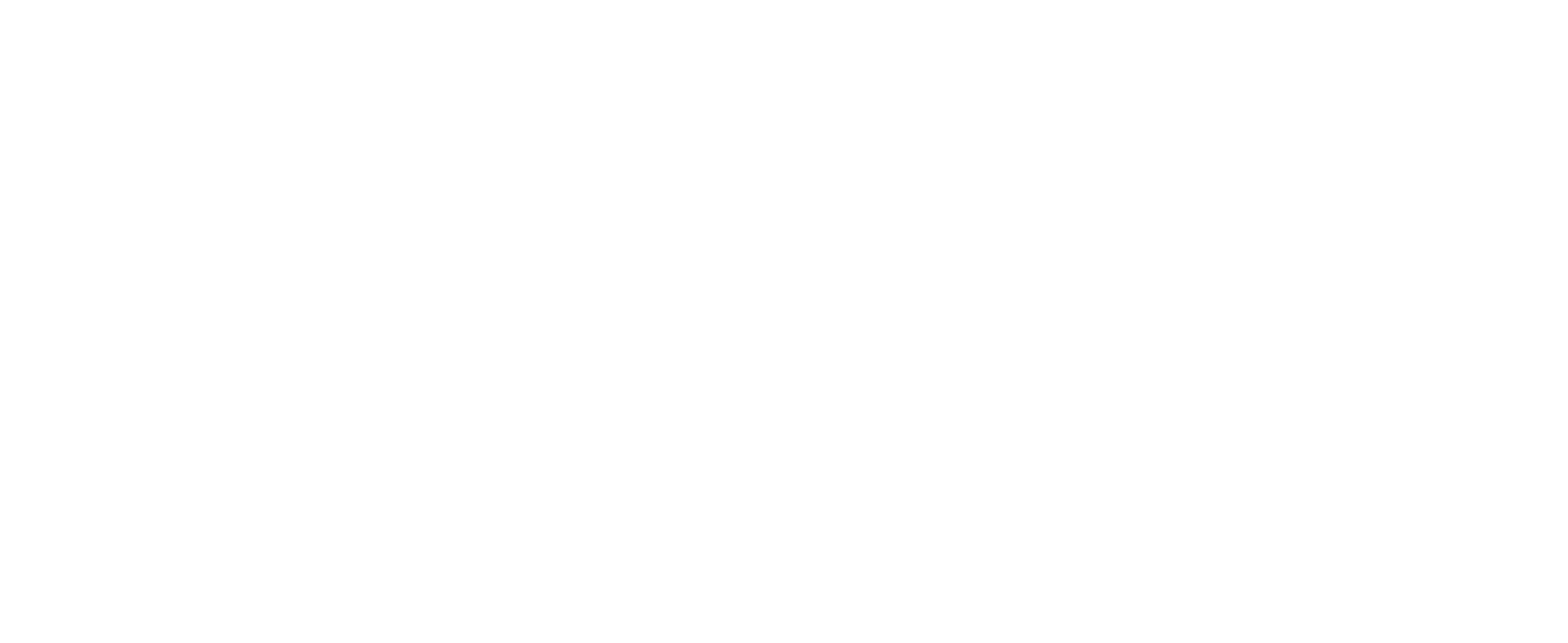
А если правки влекут за собой переписывание сценария процентов на 80? А если из-за одной правки все сыпется по принципу домино?
Значит, надо все переписывать, да. Я про это и говорю. Начнете писать сценарий по-настоящему, переписывая его столько, сколько надо, доводя до совершенства, — и сразу, поверьте, начнете отстаивать свой гонорар, потому что долгие ваши муки будут стоять у вас перед глазами, а перед глазами продюсеров будет стоять ваш хороший текст. Вот прям недавно я написала пилот сериала. И это получился хороший пилот. Он понравился и мне, и продюсеру. Но мы не успокоились и стали искать другую форму, другое изложение, другой подход, с прицелом на весь сезон и так далее. Искали, нащупывали: а если так, не лучше будет? Я переписала этот пилот полностью четыре раза. Полностью. И каждый раз это был хороший сценарий. Просто мы хотели сделать точнее. Главное, чтобы люди, которые с тобой вместе работают, были адекватны. Чтобы их правки шли от фильма, а не от самодурства. Если от самодурства, от того, что им кажется, будто они разбираются в драматургии, или им кажется, будто надо чуть-чуть поправить, не понимая, что это повлечет за собой переделку всего текста, бегите от них.
Но вообще моя главная сценарная боль в том, что у нас некоторые продюсеры спешат доделать и сдать сценарий. Зачем? Сценарий — самый дешевый этап производства, даже с очень дорогими сценаристами. (Смеется.) И самый важный этап. Дайте сценаристам время. Они долго работают не потому, что они ленивые (я, когда пишу, работаю по факту каждый день), а потому, что хороший сценарий требует времени: вы́носить его, переписать, найти правильные решения. На Западе сценарии сериалов пишутся по несколько лет. Это правильно. Если в вашем сценарии будут дыры и неточности, потом все всплывет на площадке и, в результате, на экране у зрителя.
Какое сейчас место музыка занимает в вашей жизни? Что с группой «Сухие»?
Так группа давно закончилась, и я ушла из лейбла. Когда нас туда пригласили, у меня были определенные иллюзии, что можно оставаться в неформате и занять свою нишу. Но вскоре я поняла, что это не так, у нас в музыке жестко форматированный рынок, и даже большой лейбл не может поставить неформатную песню на радио. А то, что считается форматом, — песня, которую у меня больше всего гоняли по радио, — это был мой жесточайший компромисс с собой. Да, можно было делать и продвигать свою музыку в интернете — тогда это только-только начиналось, сейчас это абсолютно реально, — но на такое меня просто не хватило. Видимо, я ненастоящий музыкант.
Какая песня была компромиссом с форматом?
(Напевает.) «Танцуй, дари, дыши со мной одним воздухом, будь со мной по любви».
Ясно.
Да, я поняла, что еще ничего не началось, а я уже исчерпала весь свой запас компромиссов. Так что попросила лейбл меня отпустить. И они отпустили. А сольное творчество началось с Англии. Мы выступали с группой в Лондоне для русскоязычной публики, и туда один из зрителей привел своих знакомых англичанок, музыкальных менеджеров. После концерта мы с ними выпивали, они сказали: «Тебе нужно петь на английском, приезжай, мы тебе дадим студию, попробуем, запишем». Я ответила: «Мне кажется, я не смогу писать песни на английском». Они сказали: «Ты приезжай — мы разберемся». Я подумала: ну, а чего нет? И поехала. Дальше мы сели на студии с разными саунд-продюсерами, и вдруг выяснилось, что это круто. То, что язык неродной, — как ни странно, оказалось совсем не помеха. Мы записали EP из трех песен и одной инструменталки, я вернулась обратно в Москву. А потом этот EP очень хорошо зашел, занял места в европейских и британских чартах, и меня позвали писать альбом. Я прожила в Лондоне какое-то время, записала альбом, а потом у меня началась «Маша». И кино, конечно, все перевесило.
Перспективы-то там есть?
С одной стороны, там огромное количество крутых музыкантов, есть ощущение, что ты — всего лишь одна из миллиона. С другой стороны, возможностей делать любую музыку и показывать ее там так много, как нигде. Конкуренция меня никогда не угнетала, мне в ней кайфово. Ну и Лондон, конечно, по-прежнему столица мировой музыки. Если ты хочешь серьезно заниматься музыкой, надо жить в Лондоне или ориентироваться на Лондон. Отсутствие рамок, форматов и границ. Пишешься в студии, а в соседней комнате сидит музыкант из The Prodigy, он может зайти и сказать: «О, что это за обработка у тебя на бочке? Cool sound!»
Где надо жить, чтобы снимать кино?
В Америке, понятное дело: там самая системная киноиндустрия.
Но вы здесь.
Я здесь, да. Ну, а что? Зато только здесь девочка с улицы, сценарист, может запуститься и снять свой полный метр.
Значит, надо все переписывать, да. Я про это и говорю. Начнете писать сценарий по-настоящему, переписывая его столько, сколько надо, доводя до совершенства, — и сразу, поверьте, начнете отстаивать свой гонорар, потому что долгие ваши муки будут стоять у вас перед глазами, а перед глазами продюсеров будет стоять ваш хороший текст. Вот прям недавно я написала пилот сериала. И это получился хороший пилот. Он понравился и мне, и продюсеру. Но мы не успокоились и стали искать другую форму, другое изложение, другой подход, с прицелом на весь сезон и так далее. Искали, нащупывали: а если так, не лучше будет? Я переписала этот пилот полностью четыре раза. Полностью. И каждый раз это был хороший сценарий. Просто мы хотели сделать точнее. Главное, чтобы люди, которые с тобой вместе работают, были адекватны. Чтобы их правки шли от фильма, а не от самодурства. Если от самодурства, от того, что им кажется, будто они разбираются в драматургии, или им кажется, будто надо чуть-чуть поправить, не понимая, что это повлечет за собой переделку всего текста, бегите от них.
Но вообще моя главная сценарная боль в том, что у нас некоторые продюсеры спешат доделать и сдать сценарий. Зачем? Сценарий — самый дешевый этап производства, даже с очень дорогими сценаристами. (Смеется.) И самый важный этап. Дайте сценаристам время. Они долго работают не потому, что они ленивые (я, когда пишу, работаю по факту каждый день), а потому, что хороший сценарий требует времени: вы́носить его, переписать, найти правильные решения. На Западе сценарии сериалов пишутся по несколько лет. Это правильно. Если в вашем сценарии будут дыры и неточности, потом все всплывет на площадке и, в результате, на экране у зрителя.
Какое сейчас место музыка занимает в вашей жизни? Что с группой «Сухие»?
Так группа давно закончилась, и я ушла из лейбла. Когда нас туда пригласили, у меня были определенные иллюзии, что можно оставаться в неформате и занять свою нишу. Но вскоре я поняла, что это не так, у нас в музыке жестко форматированный рынок, и даже большой лейбл не может поставить неформатную песню на радио. А то, что считается форматом, — песня, которую у меня больше всего гоняли по радио, — это был мой жесточайший компромисс с собой. Да, можно было делать и продвигать свою музыку в интернете — тогда это только-только начиналось, сейчас это абсолютно реально, — но на такое меня просто не хватило. Видимо, я ненастоящий музыкант.
Какая песня была компромиссом с форматом?
(Напевает.) «Танцуй, дари, дыши со мной одним воздухом, будь со мной по любви».
Ясно.
Да, я поняла, что еще ничего не началось, а я уже исчерпала весь свой запас компромиссов. Так что попросила лейбл меня отпустить. И они отпустили. А сольное творчество началось с Англии. Мы выступали с группой в Лондоне для русскоязычной публики, и туда один из зрителей привел своих знакомых англичанок, музыкальных менеджеров. После концерта мы с ними выпивали, они сказали: «Тебе нужно петь на английском, приезжай, мы тебе дадим студию, попробуем, запишем». Я ответила: «Мне кажется, я не смогу писать песни на английском». Они сказали: «Ты приезжай — мы разберемся». Я подумала: ну, а чего нет? И поехала. Дальше мы сели на студии с разными саунд-продюсерами, и вдруг выяснилось, что это круто. То, что язык неродной, — как ни странно, оказалось совсем не помеха. Мы записали EP из трех песен и одной инструменталки, я вернулась обратно в Москву. А потом этот EP очень хорошо зашел, занял места в европейских и британских чартах, и меня позвали писать альбом. Я прожила в Лондоне какое-то время, записала альбом, а потом у меня началась «Маша». И кино, конечно, все перевесило.
Перспективы-то там есть?
С одной стороны, там огромное количество крутых музыкантов, есть ощущение, что ты — всего лишь одна из миллиона. С другой стороны, возможностей делать любую музыку и показывать ее там так много, как нигде. Конкуренция меня никогда не угнетала, мне в ней кайфово. Ну и Лондон, конечно, по-прежнему столица мировой музыки. Если ты хочешь серьезно заниматься музыкой, надо жить в Лондоне или ориентироваться на Лондон. Отсутствие рамок, форматов и границ. Пишешься в студии, а в соседней комнате сидит музыкант из The Prodigy, он может зайти и сказать: «О, что это за обработка у тебя на бочке? Cool sound!»
Где надо жить, чтобы снимать кино?
В Америке, понятное дело: там самая системная киноиндустрия.
Но вы здесь.
Я здесь, да. Ну, а что? Зато только здесь девочка с улицы, сценарист, может запуститься и снять свой полный метр.
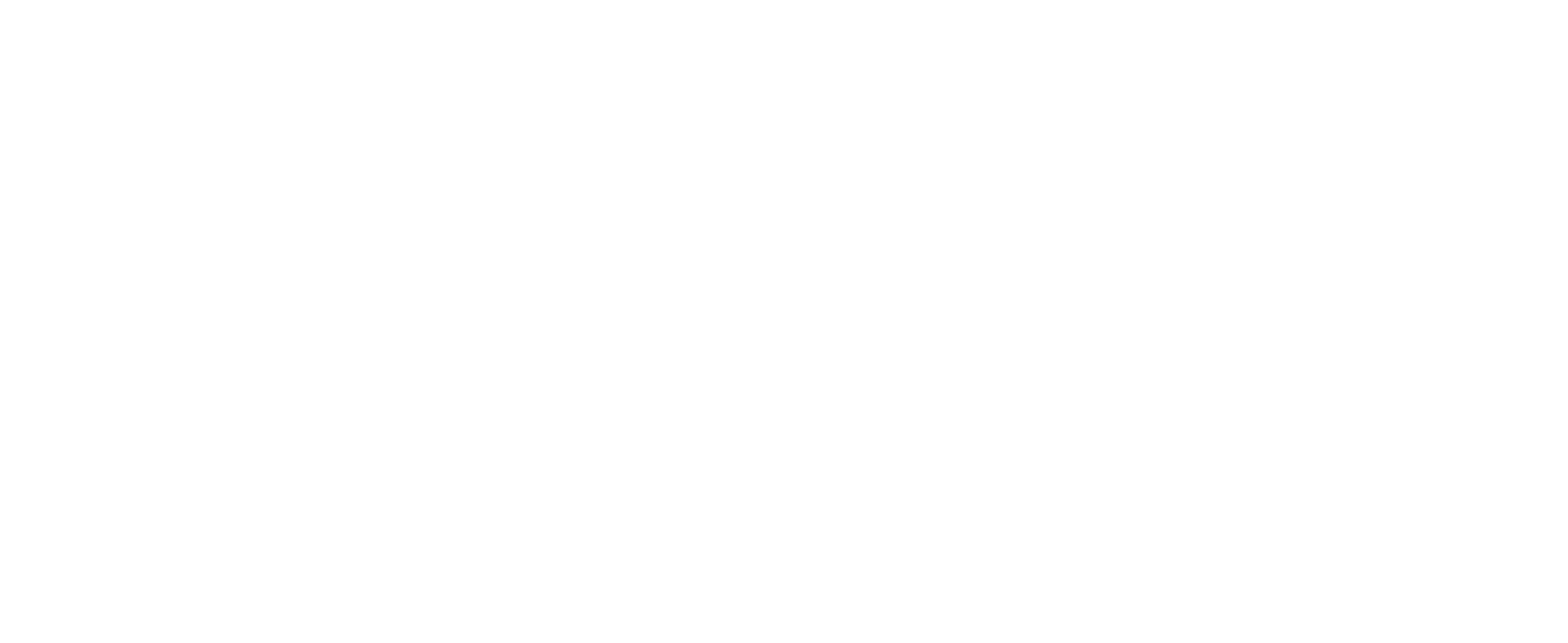
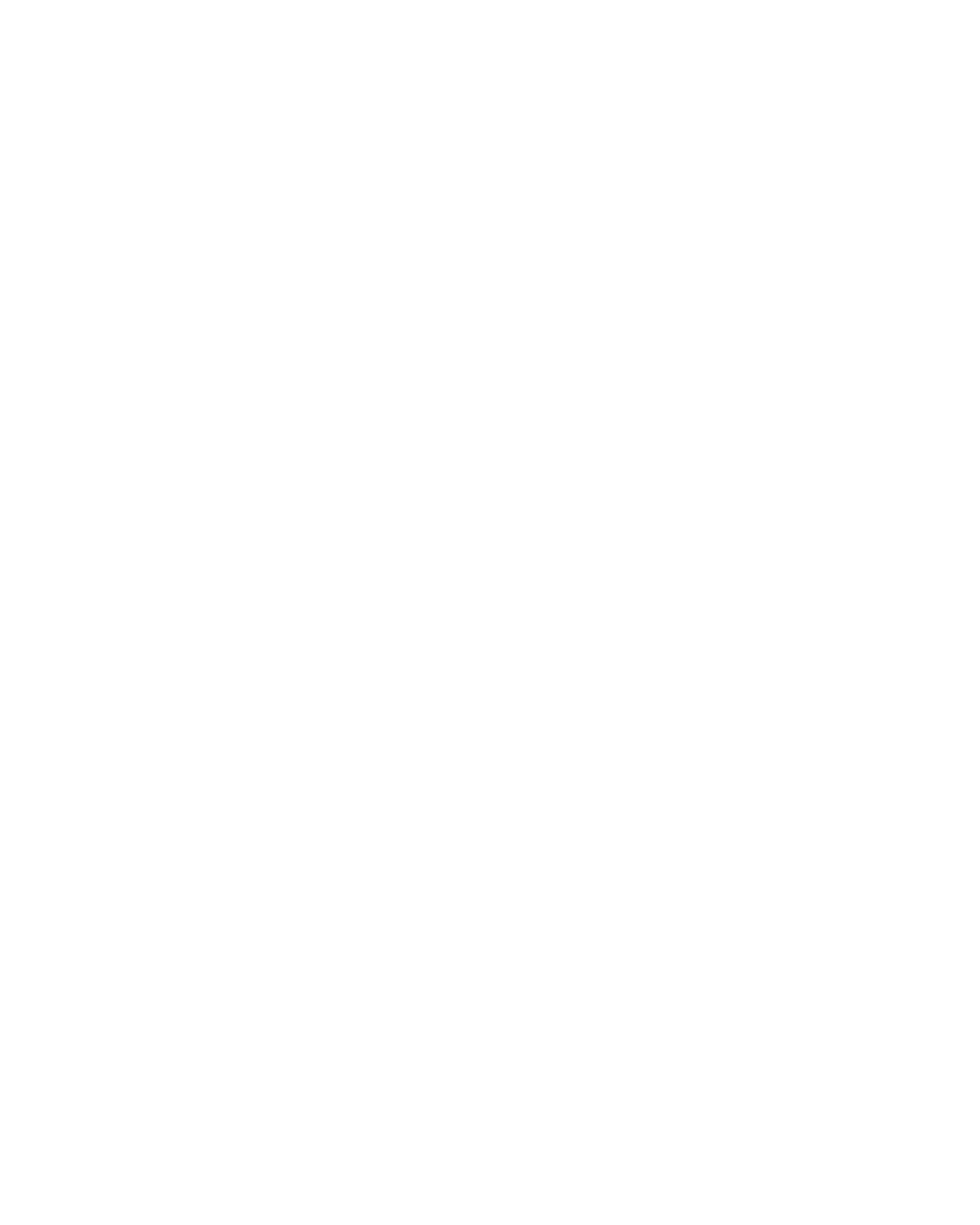
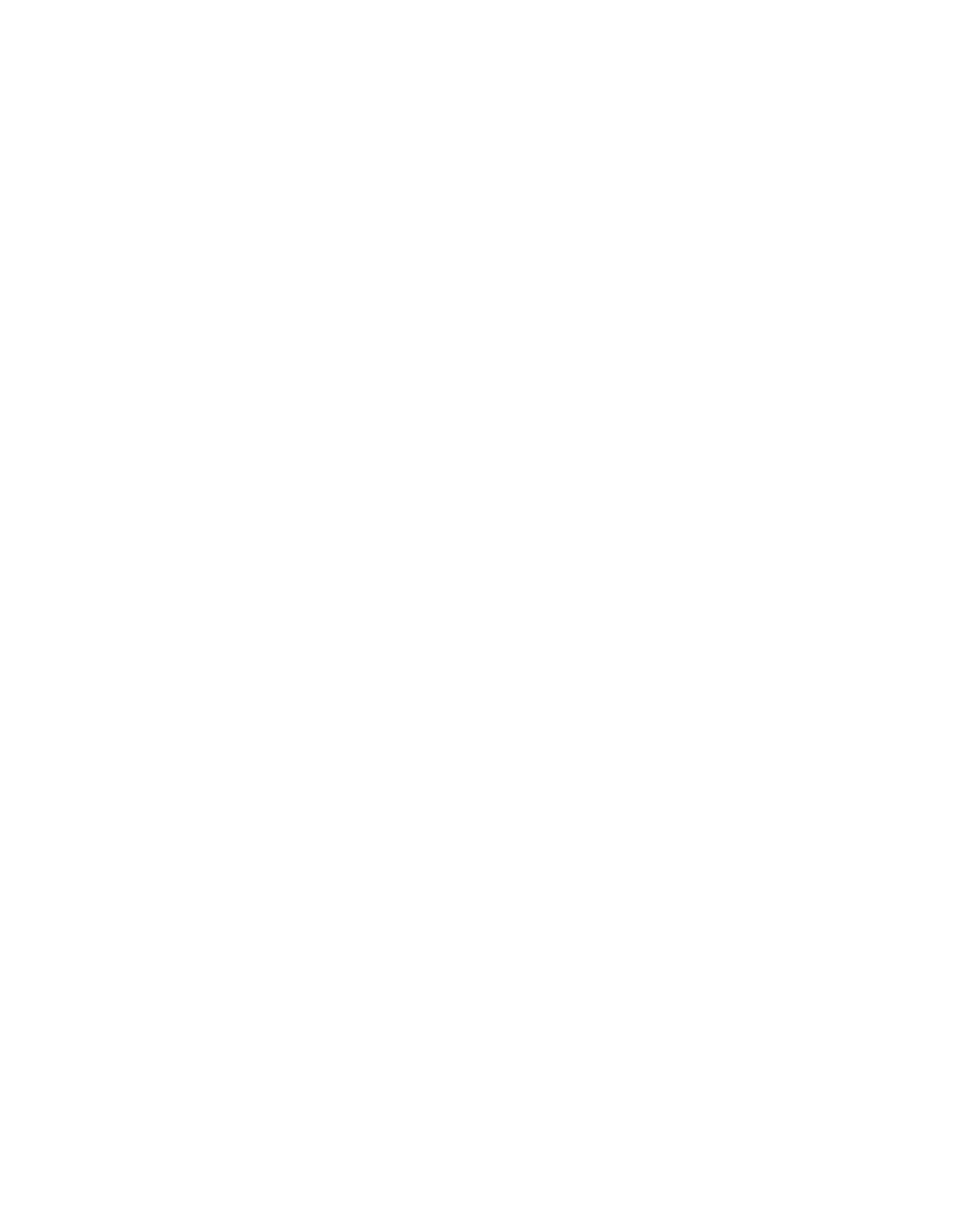
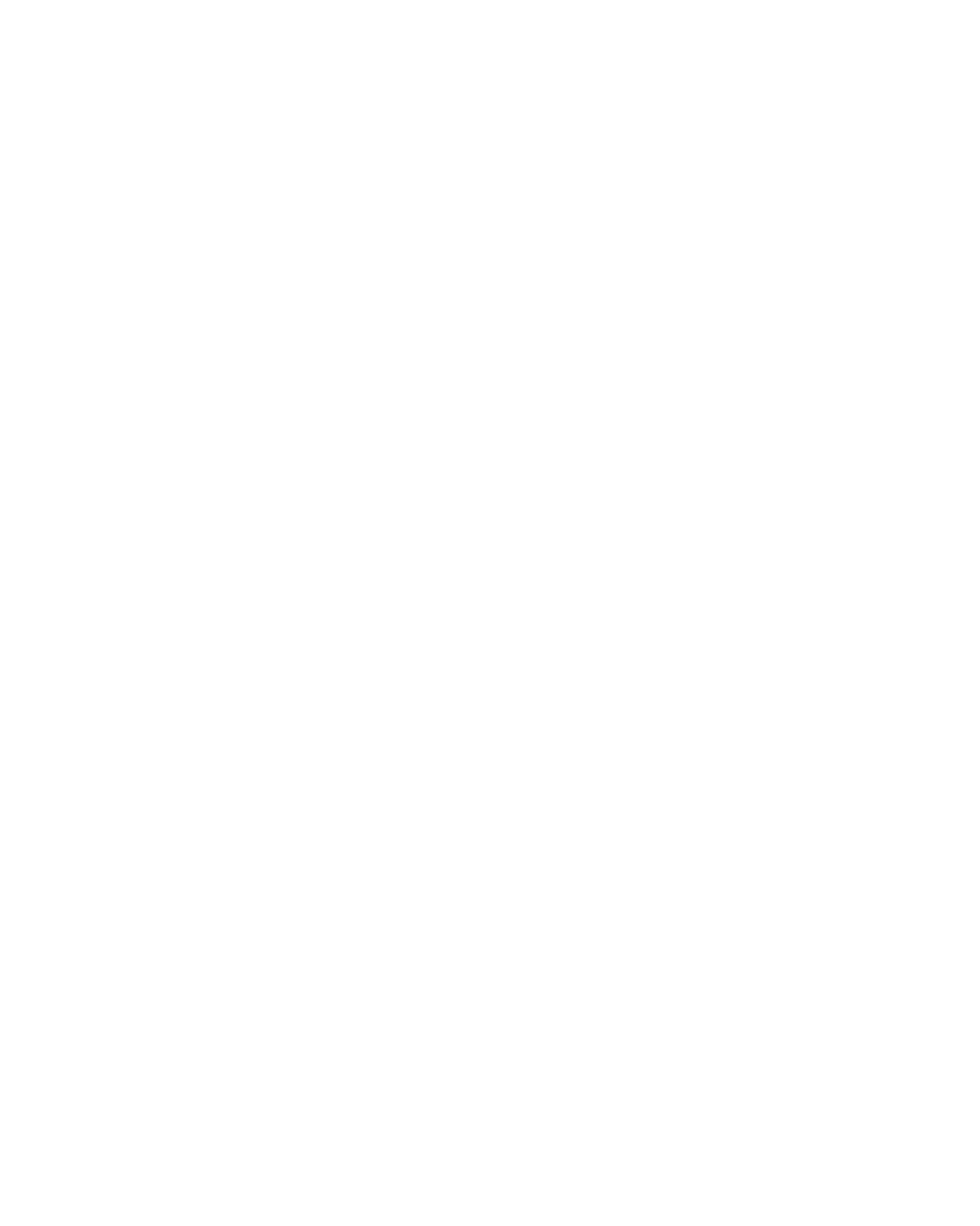
основной конкурс
В «Конференции» вы вернулись к методу, которым когда-то прославились, — к работе на стыке игрового и неигрового кино, к совмещению реальных, почти документальных фактов с постановкой.
Мне это кажется скорее кинокритическим обобщением, потому что фильм к документальному материалу имеет отстраненное отношение. Просто когда ты работаешь с каким-то событием, у тебя нет морального права выйти за его рамки. Однако в игровом кино существует большая возможность дистанции.
Некоторые монологи кажутся при этом практически вербатимом. Это иллюзия?
Метод написания сценария как раз подразумевал живые разговоры с очевидцами, чтобы там сохранились чувства и эмоции настоящих людей, не вымышленных. При этом в сценарии не были прописаны диалоги. Я всегда так работаю. В этот раз так же. Поэтому доля импровизации артистов и работа с образом в обозначенных границах дает такое ощущение.
Что было отправной точкой сценария?
Я случайно оказался в Театральном центре на Дубровке. Спустя многие годы в здании, практически в самом центре Москвы, не было ремонта, никакой «реновации». Но это не мемориальный комплекс, а действующий концертный зал. Ежедневно там происходят представления Цирка танцующих фонтанов. А в фойе, на мраморных колоннах, до сих пор следы от пуль. Здесь и возник разговор о памяти.
Мне это кажется скорее кинокритическим обобщением, потому что фильм к документальному материалу имеет отстраненное отношение. Просто когда ты работаешь с каким-то событием, у тебя нет морального права выйти за его рамки. Однако в игровом кино существует большая возможность дистанции.
Некоторые монологи кажутся при этом практически вербатимом. Это иллюзия?
Метод написания сценария как раз подразумевал живые разговоры с очевидцами, чтобы там сохранились чувства и эмоции настоящих людей, не вымышленных. При этом в сценарии не были прописаны диалоги. Я всегда так работаю. В этот раз так же. Поэтому доля импровизации артистов и работа с образом в обозначенных границах дает такое ощущение.
Что было отправной точкой сценария?
Я случайно оказался в Театральном центре на Дубровке. Спустя многие годы в здании, практически в самом центре Москвы, не было ремонта, никакой «реновации». Но это не мемориальный комплекс, а действующий концертный зал. Ежедневно там происходят представления Цирка танцующих фонтанов. А в фойе, на мраморных колоннах, до сих пор следы от пуль. Здесь и возник разговор о памяти.
Читать дальше
Вы презентовали «Конференцию» на кинорынке в Канне. Как вы ее позиционировали?
Как историю о памяти, о посттравматическом синдроме, о террористическом акте в театральном центре в 2002 году. Если мы говорим о современной истории, о нулевых годах, то тема международного терроризма объединяет в этом смысле практически всех людей на планете. Этот разговор актуален во всех национальных кинематографиях.
Вы не раз говорили, что найти продюсера было сложно. А почему? Это страх, недоверие?
По-разному. Кто-то не верил, что у меня получится. Это другого рода проект, отличающийся от моих предыдущих картин. В этом смысле я понимал такого рода недоверие. Были люди, совершенно искренне не понимающие, зачем вообще заниматься авторским, содержательным кинематографом. Для них такой режиссер — это человек, не способный перейти в серьезный индустриальный кинематограф из-за отсутствия необходимых профессиональных навыков. Они просто не могли понять, зачем снимать «Конференцию». Но я все равно ходил на встречи, потому что очень хотел сделать эту картину. Были продюсеры, которым просто тема неинтересна. Кого-то это и пугало. Катя Михайлова и Костя Фам появились не сразу, но очень важно, что они сразу стали единомышленниками. Они, может быть, видели этот проект каждый по-своему, со своей точки зрения. Но они молодые и талантливые люди со своим авторским взглядом, поэтому мы стали одной командой.
Зарубежные партнеры вошли в проект позже?
Да, все хотели сначала увидеть что-то более-менее готовое. А затем к нам присоединился фонд «Евримаж», появился эстонский кинофонд. Пять компаний из России, Эстонии, Великобритании и Италии в конечном счете работали над проектом.
Почему среди всех событий вашего детства — «Курска», Беслана, взрывов жилых домов, теракта на Пушкинской и других — вы выбрали именно «Норд-Ост»?
На Кавказе я никогда не был. Когда взрывались дома, мне еще не было десяти лет. Я помню, что тогда родители дежурили в подъезде, были списки дежурств, но через несколько дней все перестали дежурить. А вот с «Норд-Остом» было другое. У нас в школе одна девочка погибла там — она была в заложниках. У нас отменили уроки, потому что учителя просто не могли их вести. У моих родителей знакомые принимали участие в самом мюзикле, они очень переживали. То есть это был не опыт перед телевизором, а столкновение с реальностью. Во мне это оставило гораздо более глубокий отпечаток.
Когда кто-то делает фильм о реальных событиях, всегда находится тот, кто говорит: я там был, все было не так, почему вы вот про это и про это не рассказали. Вас это задевает?
По большому счету нет. У каждого, кто имеет отношение к реальному событию, всегда есть свое отношение к происшедшему, это нормально. Но я для себя знаю, что я на 99% в материале, вся событийная хронология хорошо изучена. Мне известно огромное количество нюансов. Все источники в открытом доступе я изучил, пообщался с большим количеством людей, которые там были. Я не документалист и не журналист, я делаю свою историю на этой почве. От меня требуется только деликатность в освещении темы. Это нормальный процесс работы с историческим материалом. И так же нормально, что кто-то с трактовкой моей истории не согласен.
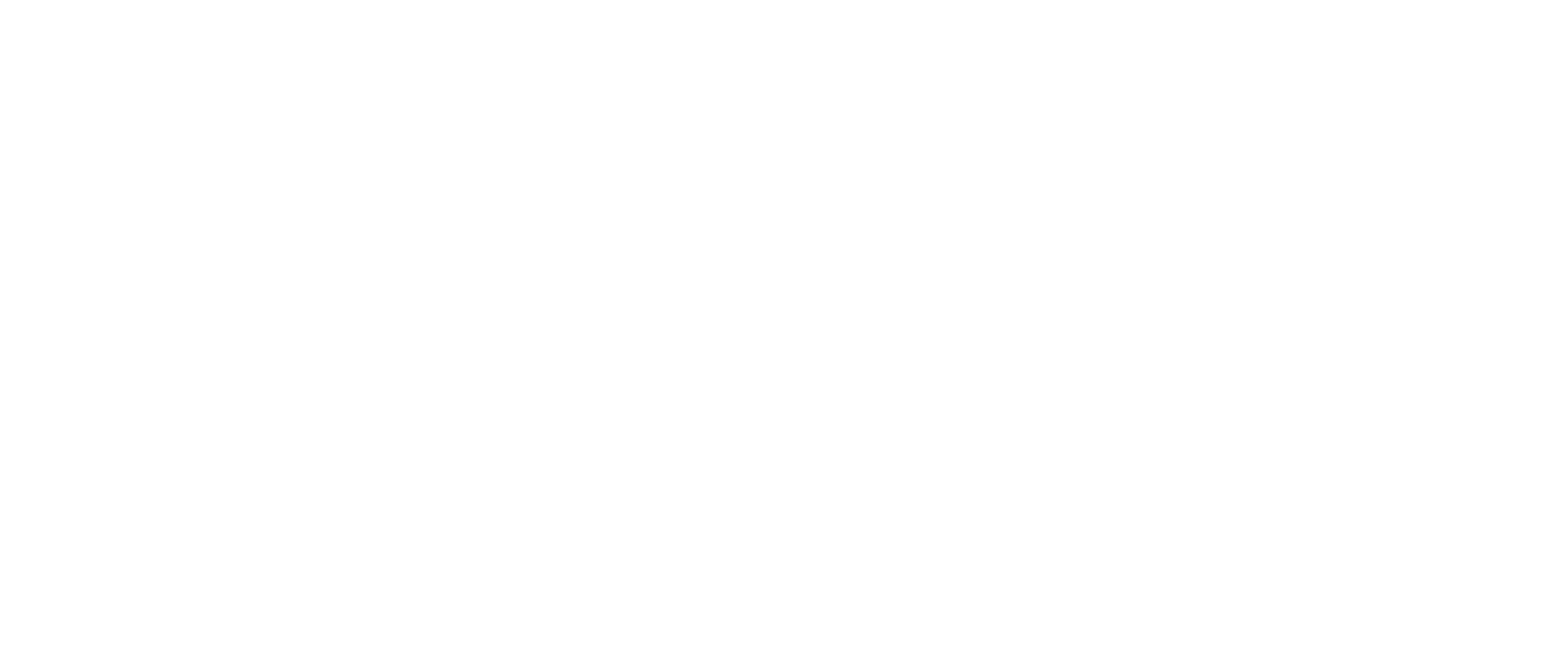
То есть консультанты на проекте уже не понадобились?
Со мной рядом были Филипп Авдеев и Рома Шмаков, которые в «Норд-Осте» оказались в заложниках. Они очень сильно мне помогали. Есть интересный момент, что люди примерно одинаково, в одних и тех же деталях помнят начало захвата и первую ночь. Дальше у многих картина видения распадается. Одни и те же факты люди помнят в разной хронологии. То есть это опять же разговор о памяти. Мои герои, как и участники событий, имеют такое же право распадаться в нюансах. Чтобы не уходить от достоверности, не вылетать из этого зала, мне были очень нужны Филипп и Рома. Они не столько участники событий, сколько прекрасные артисты, которые не дают своим присутствием другим артистам фальсифицировать важные, глобальные вещи. При этом мне было принципиально важно, чтобы это не были реальные участники событий. Тогда это была бы публицистика. А разговор о событии не мог бы выйти за рамки самого события.
Кроме самого «Норд-Оста» в фильме отчетливо заметны магистральные темы вашего творчества — предательство и вина старшего поколения перед младшим. Они оформлены в конкретном поступке, которому и посвящена вся картина. Откуда эта вечная идея предательства? Она ведь никуда с годами не уходит.
Я не говорю о поколении и не мыслю такими категориями. Это все частные истории. Мне трудно сказать, откуда это. У меня нет проблем во взаимоотношениях с моими родителями. Я думаю, что у каждого человека просто есть какой-то базовый, неизбежный набор детских травм.
Вообще тянет на поколенческие обвинения «советским» родителям: почему голосовали, почему молчали, почему приносили нас в символическую жертву?
Мне кажется, это естественные процессы, неизбежные и вневременные. Многое из литературы, кинематографа, искусства в целом нам на это указывает.
Но у вас-то не просто претензии, а предательство!
Ну, что-то со мной не так, значит. Именно со мной, а не с моими родителями.
Вы все ставите себя на место «детей», а по возрасту уже переходите в поколение «отцов».
Да, но это стереотипы нашего общества. Я понимаю, что уже не подросток, но та инфантильность, тот легкий подход к жизни, какой-то правильный инфантилизм отталкивают меня от этой традиционной схемы. Для меня вообще нет возраста. Я это ценю и в других людях. Утром ты ребенок, а вечером преподаешь студентам или собираешь чемодан на «Кинотавр» с четвертой полнометражной картиной.
Да, трудно начинать семейную жизнь, когда взял на себя роль мстителя за всех обиженных детей.
Есть определенно другие системы ценностей. Сейчас меня скорее раздражает детское кресло на заднем сидении. И это не значит, что оно всегда меня раздражало и будет раздражать дальше. Просто здесь и сейчас мне интересны другие вещи.
Со мной рядом были Филипп Авдеев и Рома Шмаков, которые в «Норд-Осте» оказались в заложниках. Они очень сильно мне помогали. Есть интересный момент, что люди примерно одинаково, в одних и тех же деталях помнят начало захвата и первую ночь. Дальше у многих картина видения распадается. Одни и те же факты люди помнят в разной хронологии. То есть это опять же разговор о памяти. Мои герои, как и участники событий, имеют такое же право распадаться в нюансах. Чтобы не уходить от достоверности, не вылетать из этого зала, мне были очень нужны Филипп и Рома. Они не столько участники событий, сколько прекрасные артисты, которые не дают своим присутствием другим артистам фальсифицировать важные, глобальные вещи. При этом мне было принципиально важно, чтобы это не были реальные участники событий. Тогда это была бы публицистика. А разговор о событии не мог бы выйти за рамки самого события.
Кроме самого «Норд-Оста» в фильме отчетливо заметны магистральные темы вашего творчества — предательство и вина старшего поколения перед младшим. Они оформлены в конкретном поступке, которому и посвящена вся картина. Откуда эта вечная идея предательства? Она ведь никуда с годами не уходит.
Я не говорю о поколении и не мыслю такими категориями. Это все частные истории. Мне трудно сказать, откуда это. У меня нет проблем во взаимоотношениях с моими родителями. Я думаю, что у каждого человека просто есть какой-то базовый, неизбежный набор детских травм.
Вообще тянет на поколенческие обвинения «советским» родителям: почему голосовали, почему молчали, почему приносили нас в символическую жертву?
Мне кажется, это естественные процессы, неизбежные и вневременные. Многое из литературы, кинематографа, искусства в целом нам на это указывает.
Но у вас-то не просто претензии, а предательство!
Ну, что-то со мной не так, значит. Именно со мной, а не с моими родителями.
Вы все ставите себя на место «детей», а по возрасту уже переходите в поколение «отцов».
Да, но это стереотипы нашего общества. Я понимаю, что уже не подросток, но та инфантильность, тот легкий подход к жизни, какой-то правильный инфантилизм отталкивают меня от этой традиционной схемы. Для меня вообще нет возраста. Я это ценю и в других людях. Утром ты ребенок, а вечером преподаешь студентам или собираешь чемодан на «Кинотавр» с четвертой полнометражной картиной.
Да, трудно начинать семейную жизнь, когда взял на себя роль мстителя за всех обиженных детей.
Есть определенно другие системы ценностей. Сейчас меня скорее раздражает детское кресло на заднем сидении. И это не значит, что оно всегда меня раздражало и будет раздражать дальше. Просто здесь и сейчас мне интересны другие вещи.
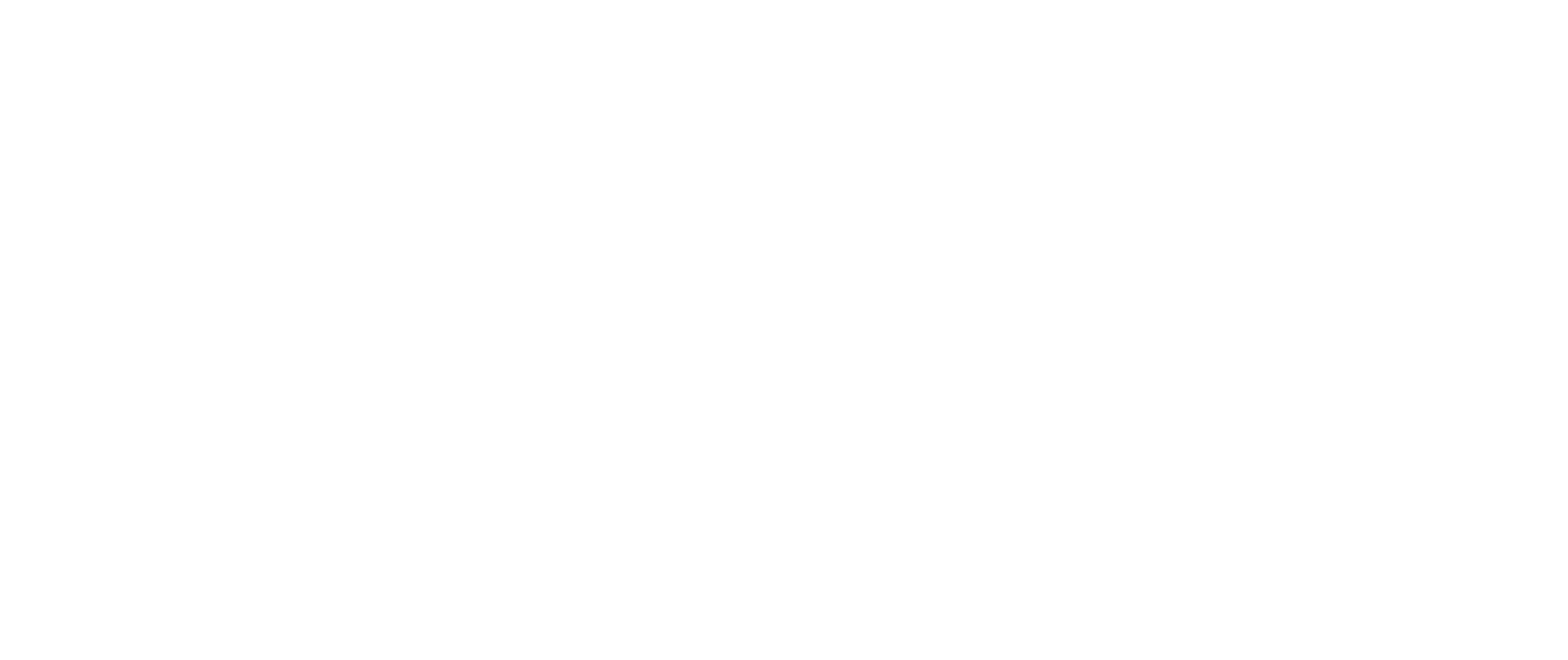
А свое отношение к отношениям вы вполне исчерпывающе обозначили в «Зоологии»: всем нужен твой хвост, а не ты сам. Или вы эту проблему решили уже?
В кино я, как любой другой режиссер, рассуждаю о насущных темах, неразрешимых. Мы для этого этим и занимаемся. Не чтобы решить, а чтобы научиться жить с этой неразрешимостью. Жизнь имеет немного параллельное течение, но не всегда абсолютно совпадает с творчеством.
В программе «Кинотавра» есть фильм «Вмешательство» Ксении Зуевой, и там не тот Иван И. Твердовский, к которому все привыкли. Что это — обратная ваша сторона?
Я не гопник. (Смеется.) Мне было безумно интересно. Первый съемочный день там был самым счастливым съемочным днем в моей жизни. Да, ты работаешь, пашешь, но ты уезжаешь со съемочной площадки, и внутри тебя нет никакой ответственности. Когда ты режиссер, ты после смены думаешь: так, это не сняли, надо доснять, надо позвонить этому и написать тому, вот это надо переделать, переписать сцены, пересмотреть плейбек. А здесь ты сделал дело и уехал. Мне страшно понравилось это чувство легкости. Все это при том, что у меня была ответственность перед Ксенией Ивановной, я боялся ее подвести, потому что я же не профессиональный актер.
Ваша игра похожа на импровизацию.
Там много импровизации. Ксения Ивановна работает в еще более свободном стиле, чем я. У нее есть тема, которую она с тобой обсуждает, и пожелание, как это должно выглядеть. У нее какая-то магия: приезжаешь на площадку весь зажатый, а она скажет два слова — и ты как-то освобождаешься.
Много дублей делали?
Нет, дублей три-пять. Если Ксении Ивановне что-то не нравится, то она делает замечание, но при этом всегда хвалит. Это очень круто работает! Я вообще многому у нее научился, потому что я-то к артистам обычно критически настроен. Я мало хвалю людей в целом. Это очень большая моя ошибка. Думаю всегда, что если что-то получилось, то так и должно быть. А с обратной стороны видно, как это тяжело. Артисты к этому очень трепетно относятся. У них стресс оттого, что режиссеру не нравится и надо делать много дублей.
В кино я, как любой другой режиссер, рассуждаю о насущных темах, неразрешимых. Мы для этого этим и занимаемся. Не чтобы решить, а чтобы научиться жить с этой неразрешимостью. Жизнь имеет немного параллельное течение, но не всегда абсолютно совпадает с творчеством.
В программе «Кинотавра» есть фильм «Вмешательство» Ксении Зуевой, и там не тот Иван И. Твердовский, к которому все привыкли. Что это — обратная ваша сторона?
Я не гопник. (Смеется.) Мне было безумно интересно. Первый съемочный день там был самым счастливым съемочным днем в моей жизни. Да, ты работаешь, пашешь, но ты уезжаешь со съемочной площадки, и внутри тебя нет никакой ответственности. Когда ты режиссер, ты после смены думаешь: так, это не сняли, надо доснять, надо позвонить этому и написать тому, вот это надо переделать, переписать сцены, пересмотреть плейбек. А здесь ты сделал дело и уехал. Мне страшно понравилось это чувство легкости. Все это при том, что у меня была ответственность перед Ксенией Ивановной, я боялся ее подвести, потому что я же не профессиональный актер.
Ваша игра похожа на импровизацию.
Там много импровизации. Ксения Ивановна работает в еще более свободном стиле, чем я. У нее есть тема, которую она с тобой обсуждает, и пожелание, как это должно выглядеть. У нее какая-то магия: приезжаешь на площадку весь зажатый, а она скажет два слова — и ты как-то освобождаешься.
Много дублей делали?
Нет, дублей три-пять. Если Ксении Ивановне что-то не нравится, то она делает замечание, но при этом всегда хвалит. Это очень круто работает! Я вообще многому у нее научился, потому что я-то к артистам обычно критически настроен. Я мало хвалю людей в целом. Это очень большая моя ошибка. Думаю всегда, что если что-то получилось, то так и должно быть. А с обратной стороны видно, как это тяжело. Артисты к этому очень трепетно относятся. У них стресс оттого, что режиссеру не нравится и надо делать много дублей.
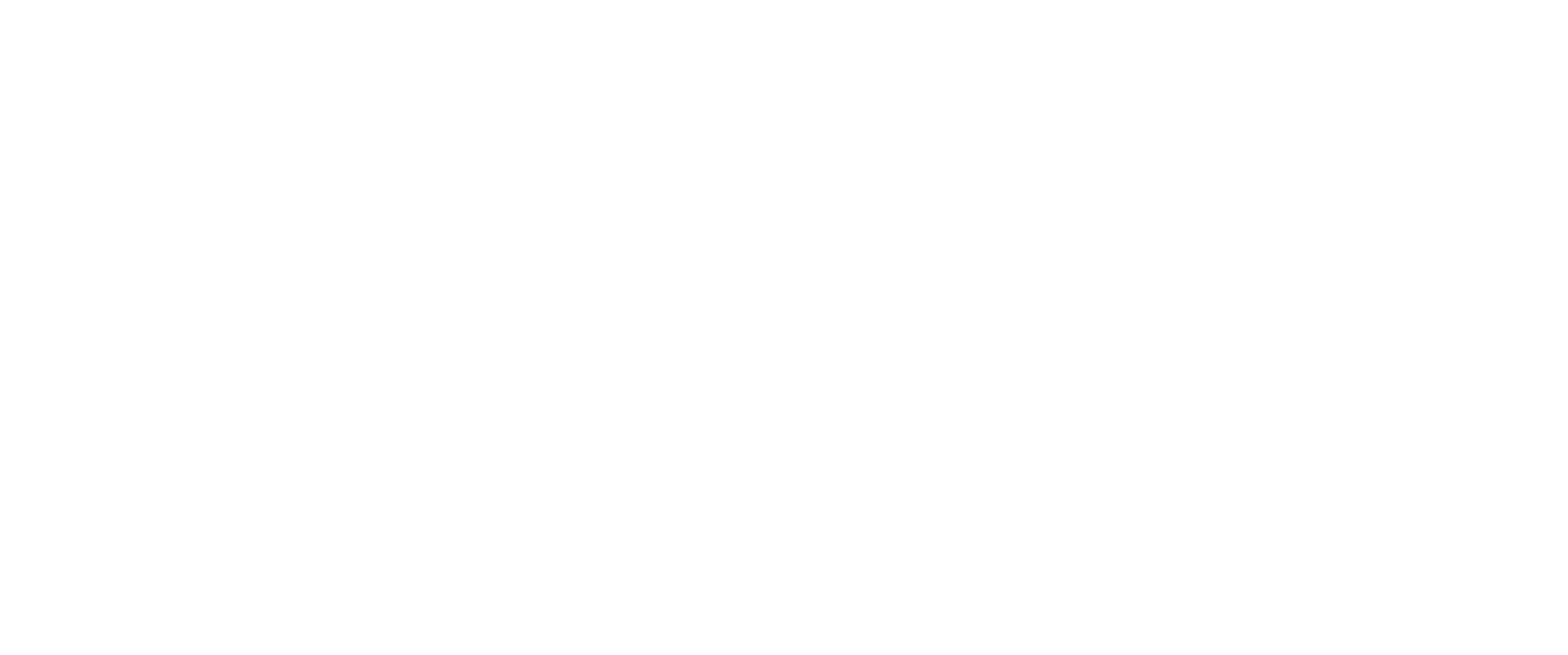
Легко вам было поменяться? Сначала вы актер, потом вы уже ее режиссер?
Понимаю, пахнет междусобойчиком, но на самом деле все не так. Когда я работал над «Конференцией», я Ксению Ивановну позвал на пробы не сразу. Хотя я понимал, что для нее это очень близкая история, я высоко ценю ее как актрису. Она здорово играла в фильме «14 шагов» Максима Шавкина, которого, к сожалению, с нами больше нет. Это было потрясающе. Но теперь она стала режиссером, у меня даже мысли не было предлагать ей вернуться в актерскую профессию. Однако на пробы приходили разные девушки, но у них не было травмы. Они все делали технически. Я ловил себя на том, что смотрю пробы и зеваю. У них не было слома, они не знали, про что играют. Тогда я позвал Зуеву, и она сразу сделала так, что было видно кино. Когда классные пробы, ты уже видишь кино, хотя еще ничего нет, кроме стола с салфетками и какого-нибудь подвала. Ты просто смотришь и можешь дать команду «Стоп!» через полчаса, потому что тебе хочется смотреть дальше.
Вы всегда казались одиночкой, держались особняком даже в мастерской Алексея Учителя, а после «Вмешательства» возникло ощущение, что это уже какое-то содружество.
Я ощущаю, что мы с Ксенией Ивановной принадлежим к одному поколению. Есть еще ряд авторов, которые только приходят в большое кино. У меня так случилось, что я дебютировал в игровом кино в 23 года. Те, кто делал первые картины со мной рядом, были старше. Я был всегда самым младшим участником «Кинотавра». Наверное, сейчас ничего не изменилось. Мой однокурсник Филипп Юрьев только сейчас дебютирует на этом фестивале. А мы с ним ровесники и сразу после школы поступили к Алексею Учителю. Поэтому в компании взрослых, зрелых авторов мне всегда было весьма сложно.
Филипп Авдеев легко согласился сниматься в «Конференции»?
Филипп и Рома пришли, потому что доверяют мне. Филипп играл у меня в «Классе коррекции». Он понимает, что я не хочу хайпануть и получить бонус от темы. Есть какие-то вещи, которые он мне рассказал лично, но этого нет в кино. С Ромой мы тоже должны были работать в «Классе коррекции», но он слишком был занят в театре. Здесь есть сцены, где он раскрылся, рассказал то, чего никогда никому не рассказывал.
Понимаю, пахнет междусобойчиком, но на самом деле все не так. Когда я работал над «Конференцией», я Ксению Ивановну позвал на пробы не сразу. Хотя я понимал, что для нее это очень близкая история, я высоко ценю ее как актрису. Она здорово играла в фильме «14 шагов» Максима Шавкина, которого, к сожалению, с нами больше нет. Это было потрясающе. Но теперь она стала режиссером, у меня даже мысли не было предлагать ей вернуться в актерскую профессию. Однако на пробы приходили разные девушки, но у них не было травмы. Они все делали технически. Я ловил себя на том, что смотрю пробы и зеваю. У них не было слома, они не знали, про что играют. Тогда я позвал Зуеву, и она сразу сделала так, что было видно кино. Когда классные пробы, ты уже видишь кино, хотя еще ничего нет, кроме стола с салфетками и какого-нибудь подвала. Ты просто смотришь и можешь дать команду «Стоп!» через полчаса, потому что тебе хочется смотреть дальше.
Вы всегда казались одиночкой, держались особняком даже в мастерской Алексея Учителя, а после «Вмешательства» возникло ощущение, что это уже какое-то содружество.
Я ощущаю, что мы с Ксенией Ивановной принадлежим к одному поколению. Есть еще ряд авторов, которые только приходят в большое кино. У меня так случилось, что я дебютировал в игровом кино в 23 года. Те, кто делал первые картины со мной рядом, были старше. Я был всегда самым младшим участником «Кинотавра». Наверное, сейчас ничего не изменилось. Мой однокурсник Филипп Юрьев только сейчас дебютирует на этом фестивале. А мы с ним ровесники и сразу после школы поступили к Алексею Учителю. Поэтому в компании взрослых, зрелых авторов мне всегда было весьма сложно.
Филипп Авдеев легко согласился сниматься в «Конференции»?
Филипп и Рома пришли, потому что доверяют мне. Филипп играл у меня в «Классе коррекции». Он понимает, что я не хочу хайпануть и получить бонус от темы. Есть какие-то вещи, которые он мне рассказал лично, но этого нет в кино. С Ромой мы тоже должны были работать в «Классе коррекции», но он слишком был занят в театре. Здесь есть сцены, где он раскрылся, рассказал то, чего никогда никому не рассказывал.
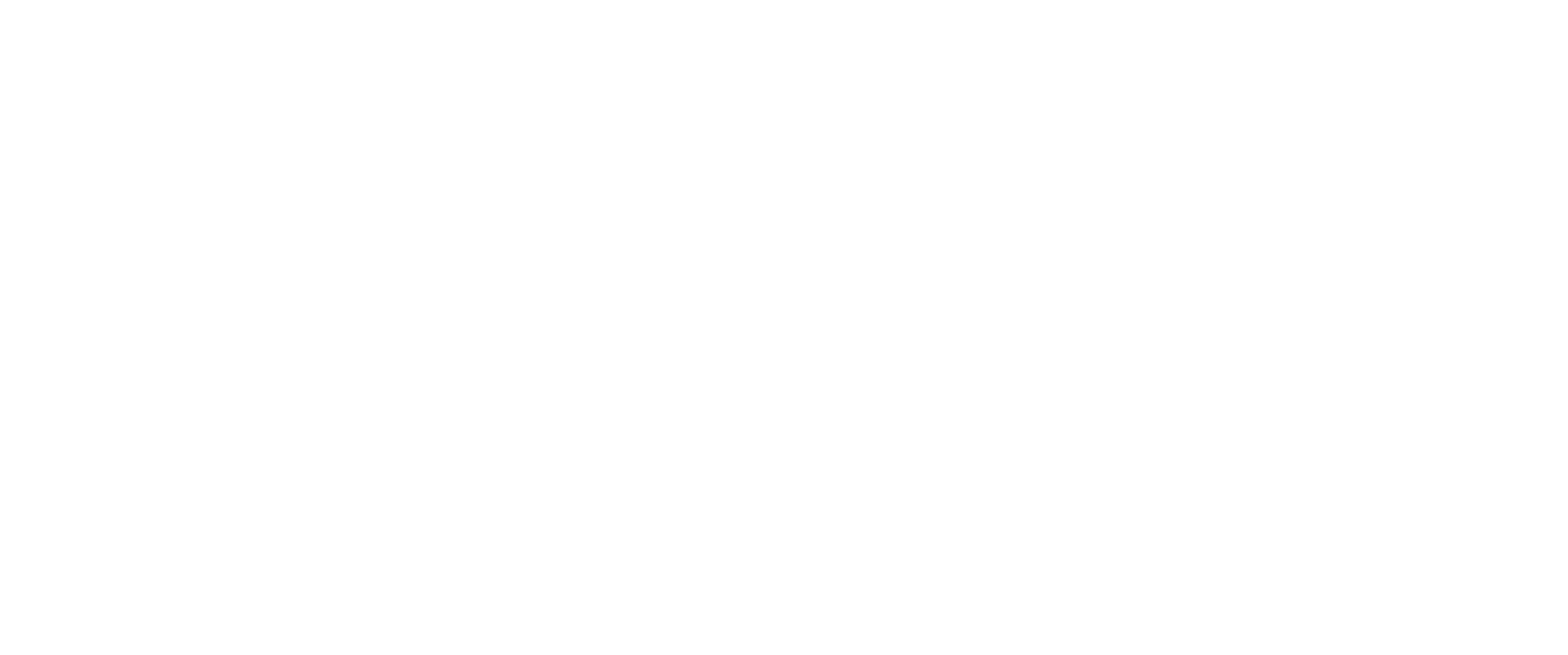
В фильме есть ряд фарсовых элементов, образующих некую систему, «снижающих» пафос картины. От бесконечного кадра с пылесосом и крупного плана Яна Цапника с его комическим амплуа до надувных кукол и пародии на «Броненосец «Потемкин». Как это формировалось?
Я не согласен. Ян Цапник — большой русский артист, меня его амплуа не волнует. Он много лет проработал в БДТ. То, что киносообщество его поздно заметило и видит в конкретном амплуа, это не проблемы Яна Юрьевича. И не куклы, а надувные манекены. Даже когда вы делаете читку фильма, вы используете какие-то предметы, чтобы обозначать вещи или людей в сцене. Почему персонажи не могут пользоваться тем же методом?
Получается, вы не закладывали эту оптику, внушающую в итоге недоверие к страданию и покаянию «виноватого» старшего поколения? Это было бы даже драматургически оправдано.
Мне такое видение не близко, я сознательно такого не закладывал. Любая картина сама диктует, как ей жить, сама развивается внутри себя. Мной самим все это смотрится как абсолютная реальность, а не чье-то извращенное сознание. Я не планировал уходить в сатиру. И если эта новая реальность возникает в картине, то это происходит в глазах смотрящего.
А ведь есть еще этот сдвиг, когда есть реальные участники тех событий в кадре, а есть актеры, которые произносят текст. Именно это заставляет думать и сомневаться.
Я бы назвал это уходом от события. Мы ведь не просто так ни разу не произносим «Норд-Ост». Я хотел уйти от публицистики. Я так говорю с людьми всего мира, имеющими отношение к разного рода трагедиям.
Что планируете снимать дальше?
Мы с Натальей Мокрицкой готовим картину «Наводнение». Это по мотивам Евгения Замятина, у него есть повести «Наводнение» и «Север». Я написал сценарий, где перенес все это в наше время. Мы с ним получили поддержку от Министерства культуры, сейчас ищем других партнеров.
Я не согласен. Ян Цапник — большой русский артист, меня его амплуа не волнует. Он много лет проработал в БДТ. То, что киносообщество его поздно заметило и видит в конкретном амплуа, это не проблемы Яна Юрьевича. И не куклы, а надувные манекены. Даже когда вы делаете читку фильма, вы используете какие-то предметы, чтобы обозначать вещи или людей в сцене. Почему персонажи не могут пользоваться тем же методом?
Получается, вы не закладывали эту оптику, внушающую в итоге недоверие к страданию и покаянию «виноватого» старшего поколения? Это было бы даже драматургически оправдано.
Мне такое видение не близко, я сознательно такого не закладывал. Любая картина сама диктует, как ей жить, сама развивается внутри себя. Мной самим все это смотрится как абсолютная реальность, а не чье-то извращенное сознание. Я не планировал уходить в сатиру. И если эта новая реальность возникает в картине, то это происходит в глазах смотрящего.
А ведь есть еще этот сдвиг, когда есть реальные участники тех событий в кадре, а есть актеры, которые произносят текст. Именно это заставляет думать и сомневаться.
Я бы назвал это уходом от события. Мы ведь не просто так ни разу не произносим «Норд-Ост». Я хотел уйти от публицистики. Я так говорю с людьми всего мира, имеющими отношение к разного рода трагедиям.
Что планируете снимать дальше?
Мы с Натальей Мокрицкой готовим картину «Наводнение». Это по мотивам Евгения Замятина, у него есть повести «Наводнение» и «Север». Я написал сценарий, где перенес все это в наше время. Мы с ним получили поддержку от Министерства культуры, сейчас ищем других партнеров.
КОНКУРС «Кинотавр. Короткий метр»
КАКИМ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ МЕТР?
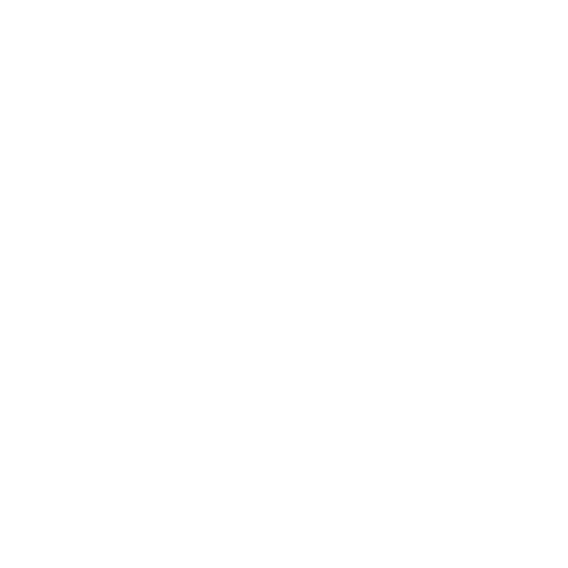
Юрий Хмельницкий
«Роман»
Идеальный полный метр — довольно эфемерное выражение. Для меня важно, чтобы фильм был честным, чтобы зритель понимал правила игры, чтобы автор погружался в неизведанное, доставал крупицы опыта и отдавал их зрителю. Сейчас я не ограничиваю себя рамками жанров, а стараюсь искать истории, которые меня увлекают до невозможности остановиться, заставляют идти вместе с героем. Поэтому в идеальном полном метре для меня каждая сцена заканчивается желанным вопросом «А что будет дальше?».
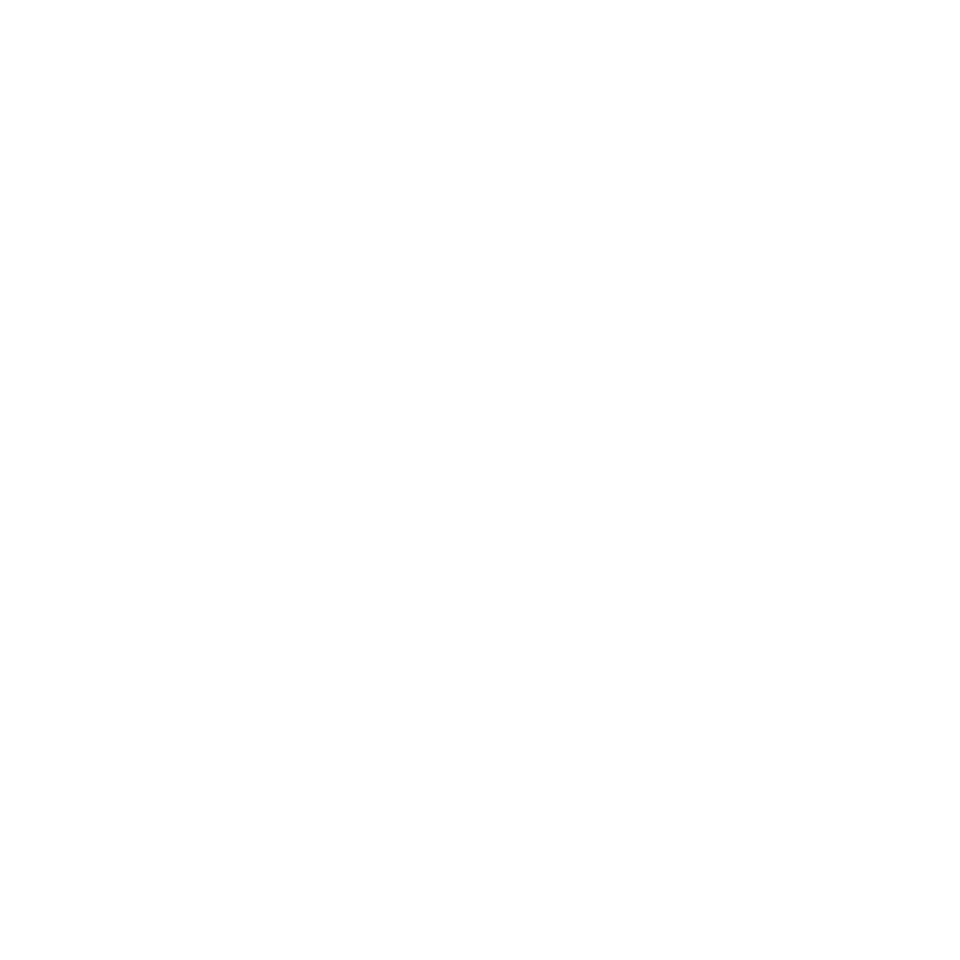
Кристина Манжула
«Я люблю Еву»
Мы развиваем из нашей небольшой истории полнометражный фильм. Многие отметили, что у короткого метра «Я люблю Еву» есть такой потенциал. Я тоже верила в это с самого начала — есть что рассказать. Я хочу снять качественный арт-мейнстримный хоррор с отличным визуалом и драматическим началом и вернуть любовь и уважение к жанру!
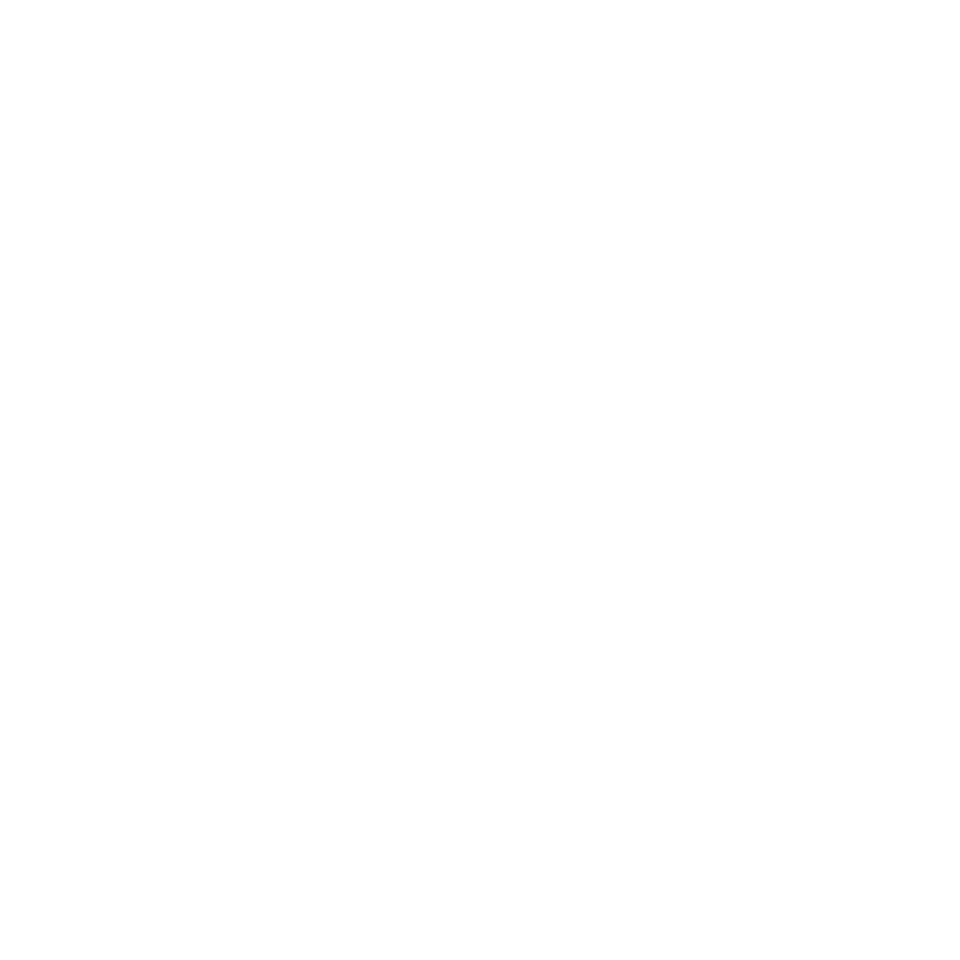
Яна Сариади
«Был ли кофе»
В смысле идеальности я не вижу большой разницы в коротком, полном метре или сериале. Главное, чтобы история погрузила в мир на экране. Чтобы захотелось пересмотреть.
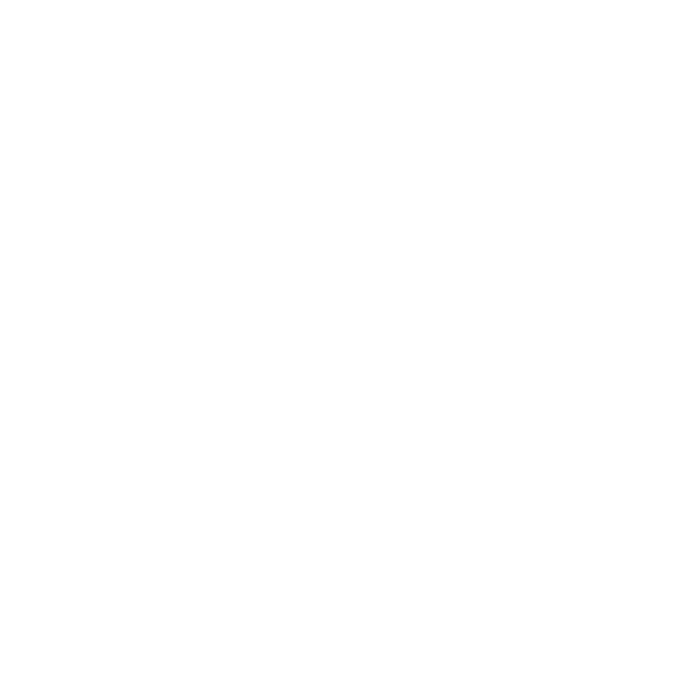
Сергей Годин
«Бубен верхнего мира»
Для меня на данный момент идеальный полный метр — это фильм, подготовка к которому длится дольше, чем производство. Пока в реалиях российского кино такое встречается нечасто. И это сильно отражается на качестве.
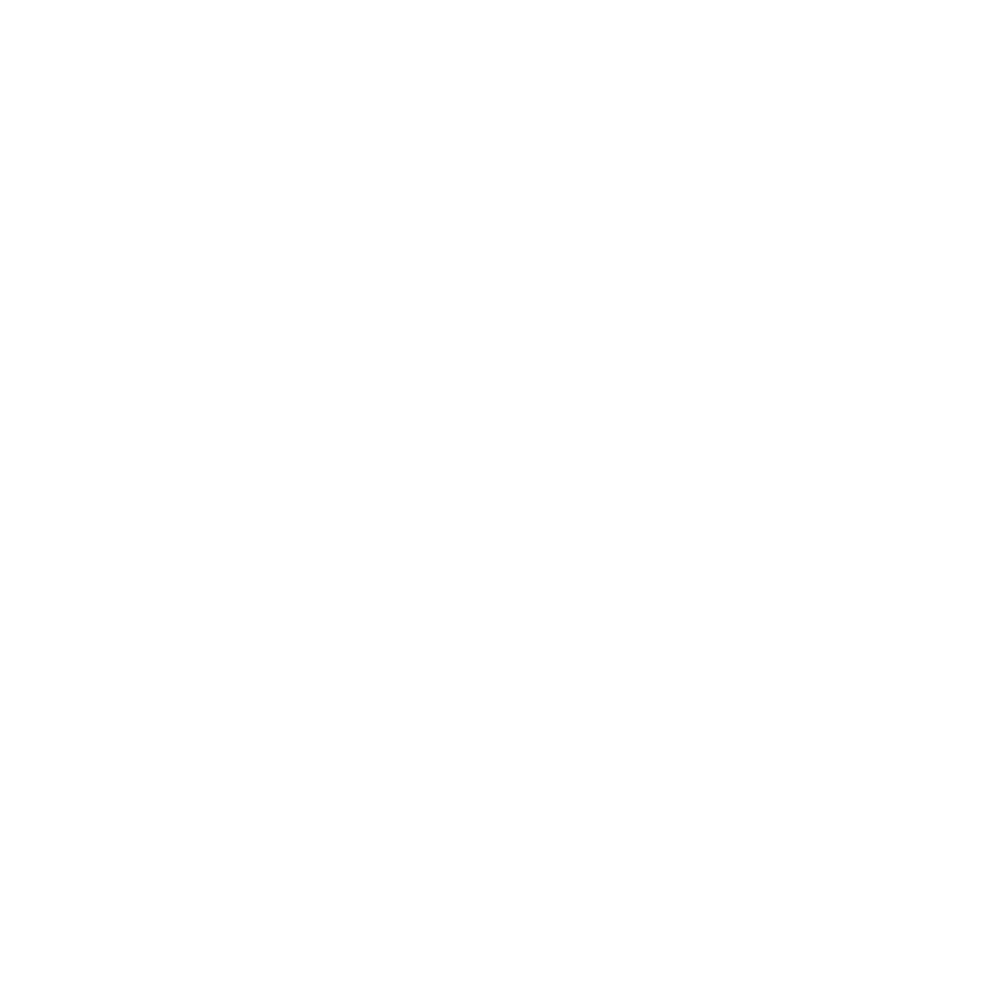
Владислав Грайн
«Доктор, позовите врача!»
Мой идеальный полный метр — драматическое роуд-муви, в основе которого лежит конфликт между молодежью и взрослым поколением в разных городах. Географическая широта этого проекта поможет раскрыть талантливых, но при этом незнаменитых актеров, которые в регионах наверняка есть. Ну и, конечно же, неограниченный бюджет на музыку, которая, несомненно, является для меня сильным вдохновением.
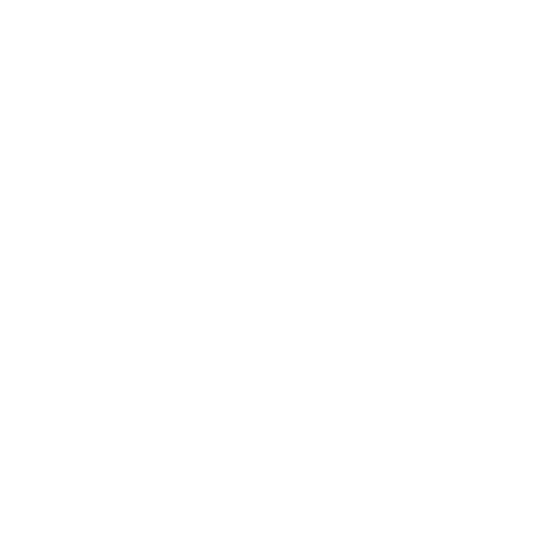
Дмитрий Руженцев
«Выходной»
Собственно, сценарий я уже написал. В настоящий момент нахожусь в поиске финансирования. В первую очередь я хотел бы, чтобы фильм был в состоянии вызвать абсолютно искренние эмоции. Не люблю снобизма, надменности и высокомерия в повествовании.
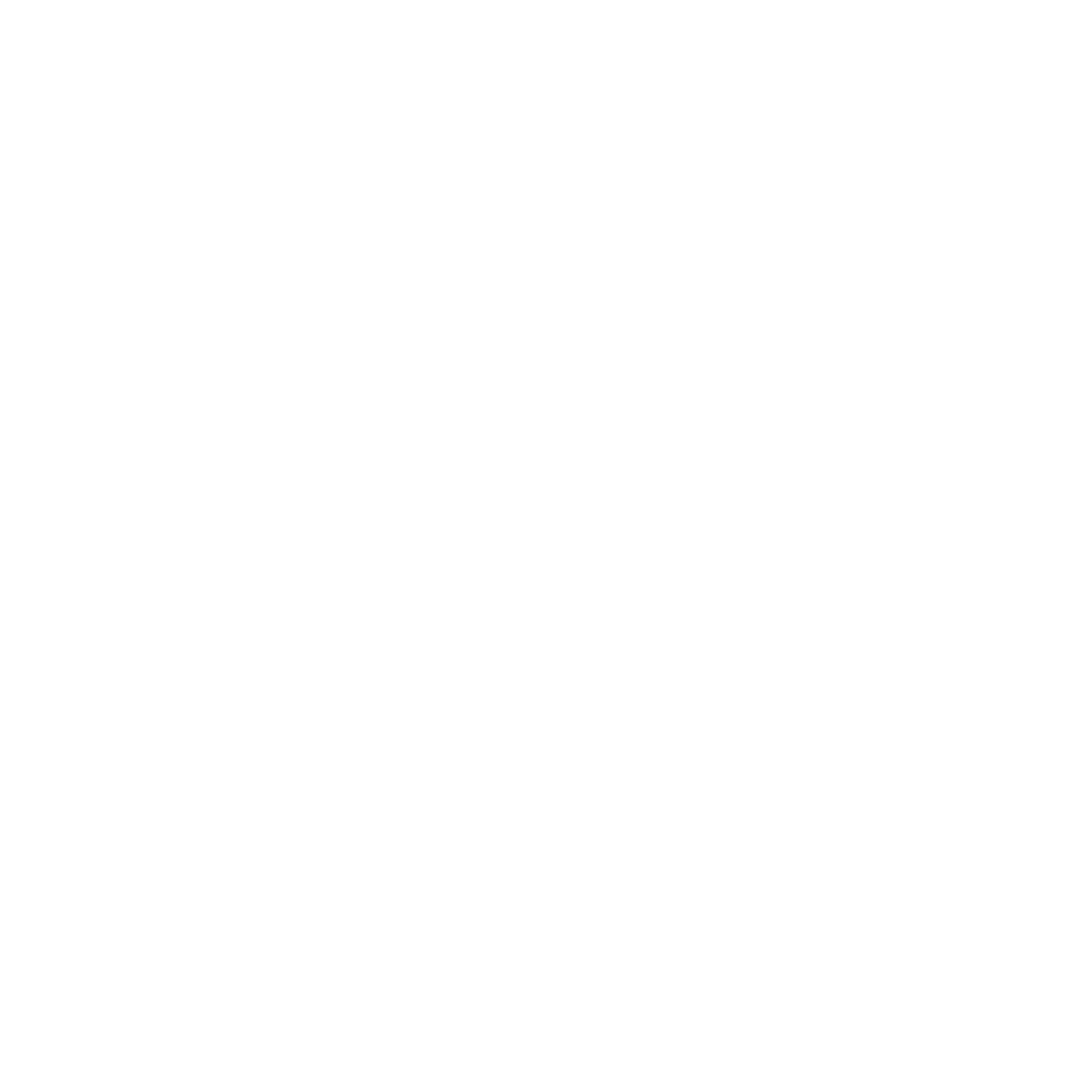
Сергей Рамз
«Конец войны»
Это история, которая построена на оригинальной авторской идее и рассказана для широкого зрителя. Именно такую историю под рабочим названием «52 Гц кит» я разрабатываю вот уже несколько лет, сценарий почти готов, и я очень рассчитываю снять свой идеальный полный метр уже в следующем году.
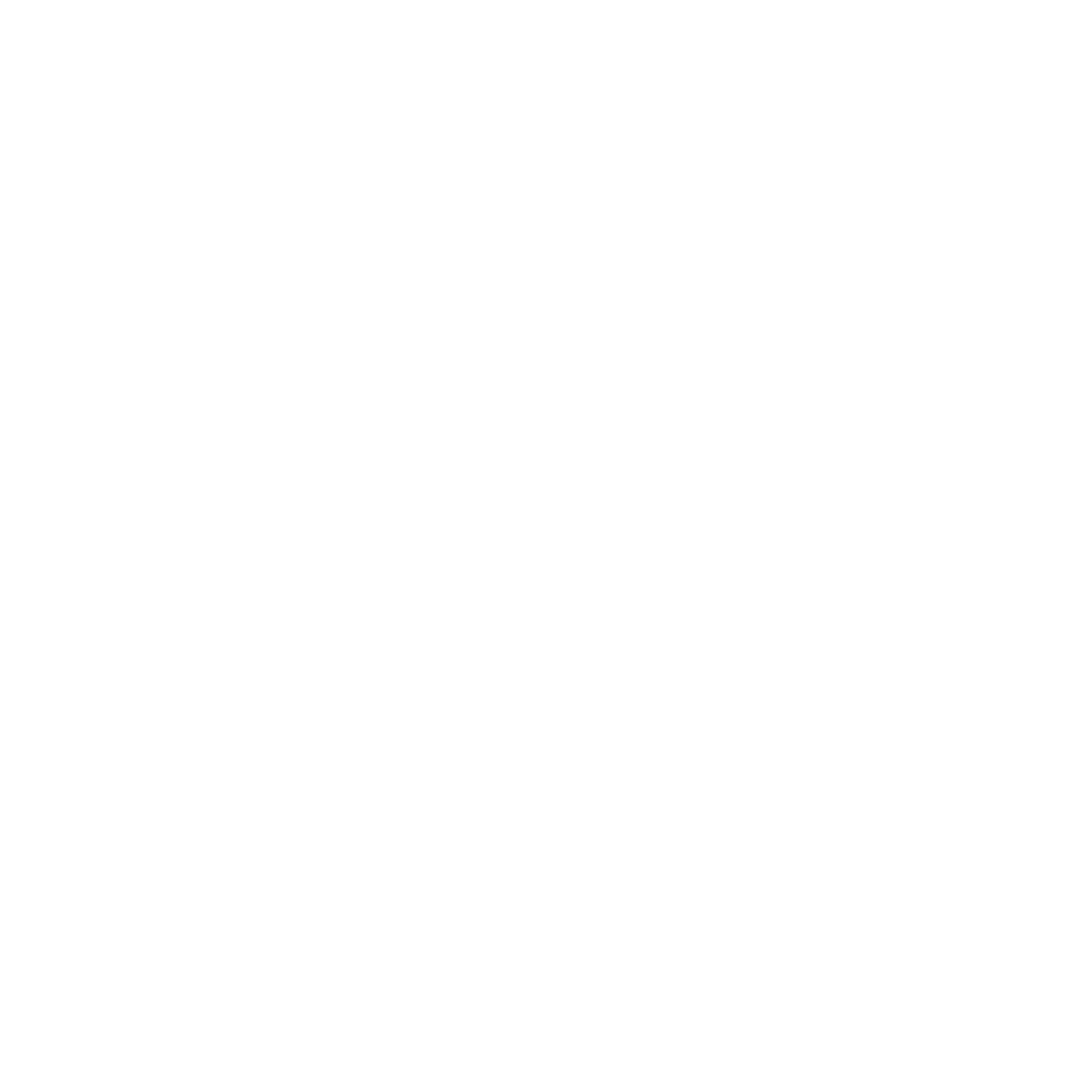
Наталия Кончаловская
«Праздник»
Это фильм, в котором режиссер выкладывается полностью, идет на риск и говорит честно и открыто о том, что его волнует лично.
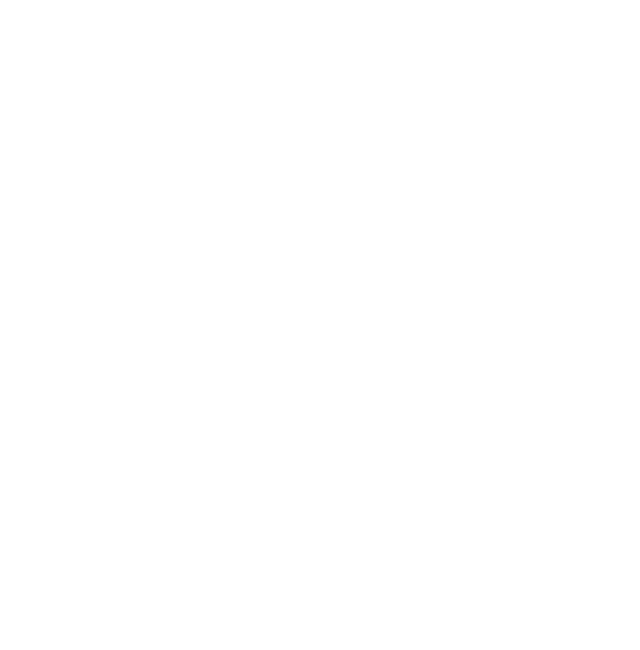
Антон Ермолин
«Ортино урочище»
Для меня это означает снять на родине. Это очень живописные места и особенные люди. На мой взгляд, нужно долго прожить на Севере, лучше — увидеть его детскими глазами, чтобы снимать о нем. Говорю лично о своих местах. О них есть немало и документальной, и художественной литературы. Хотя бывает, приезжаешь в новые для себя места и влюбляешься в них. Но это иной взгляд. При этом я не хочу зацикливаться на чем-то одном, хочу пробовать для себя разные темы и формы.
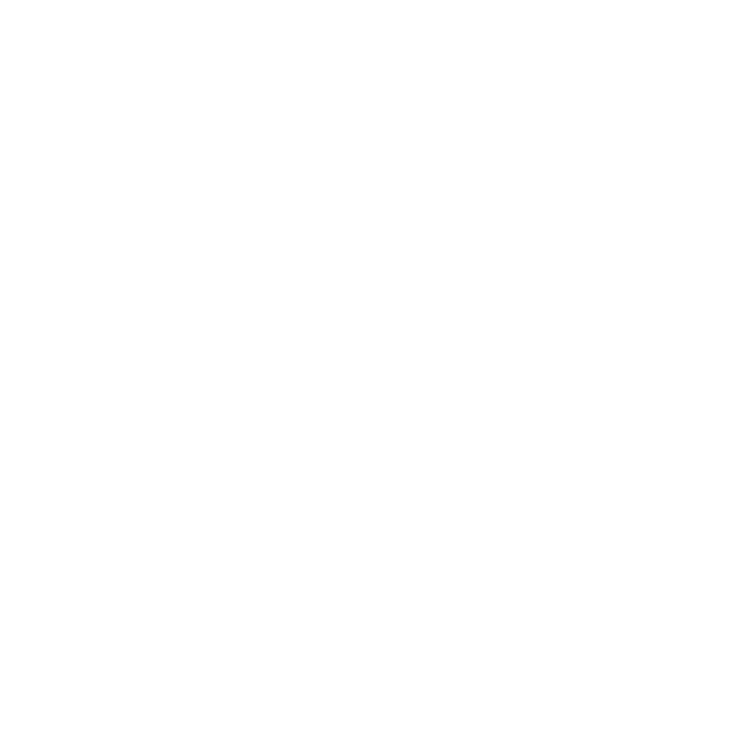
Раиля Каримова
«Рождение трагедии из звуков музыки»
Думаю, если мой полный метр понравится моей маме так же сильно, как моему мастеру, его можно будет назвать идеальным.
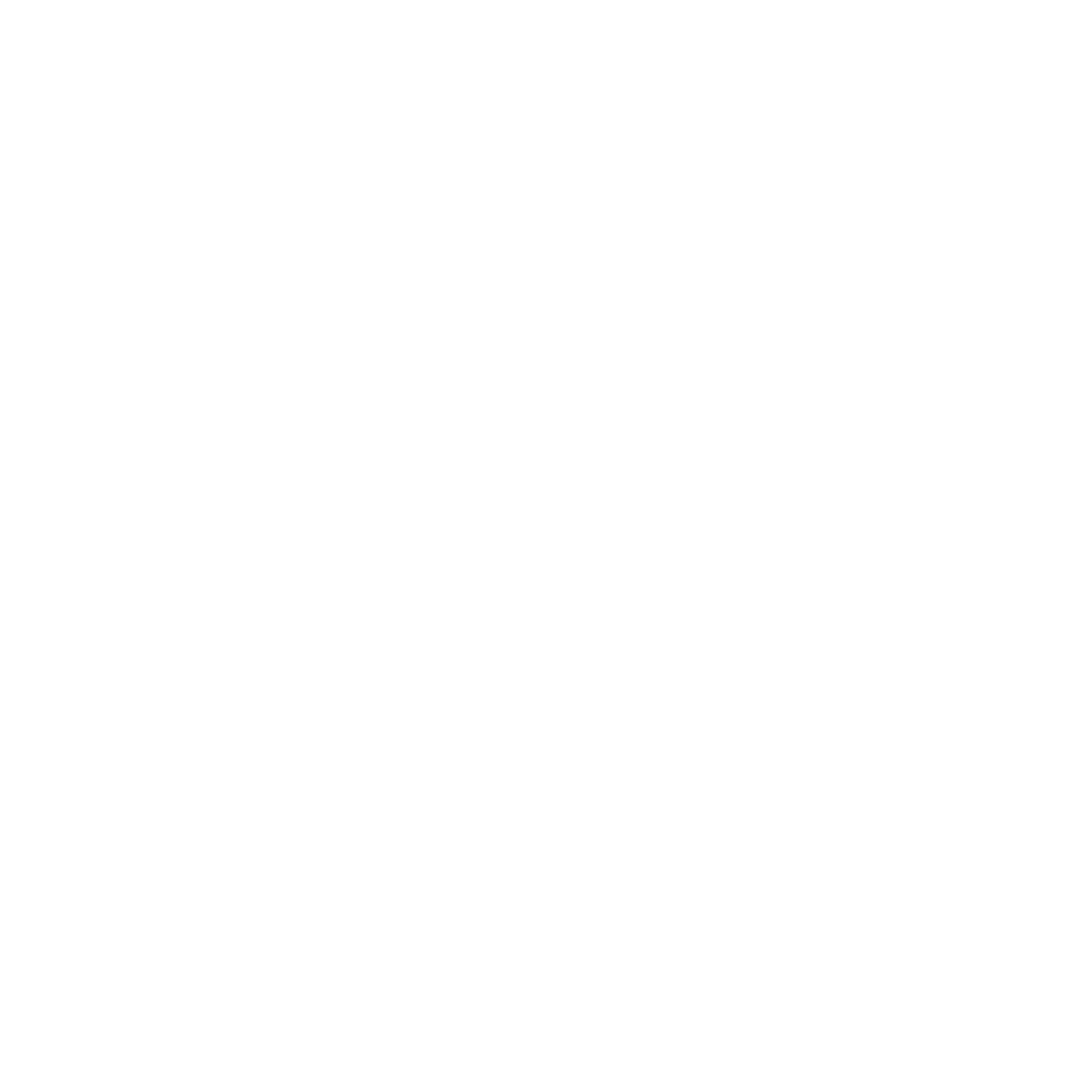
Ника Яковлева
«Говорят»
Для идеального съемочного процесса для меня важны два фактора: материал и команда. В полном метре мечты хотелось бы работать с таким материалом, который будет увлекательным исследованием отзывающихся внутри тем. Я очень люблю неоднозначность выводов — когда нет общепринятой морали, а наоборот, мораль меняется в зависимости от угла зрения. Это то, с чем часто сталкиваешься в жизни. И, конечно же, состав съемочной группы. Кино — коллективное искусство, поэтому очень важно найти единомышленников — энтузиастов, с которыми будет интересно и приятно проходить этот не всегда простой путь. В нашем коротком метре мне в этом смысле очень повезло.